Вавилонские башни восьмидесятых
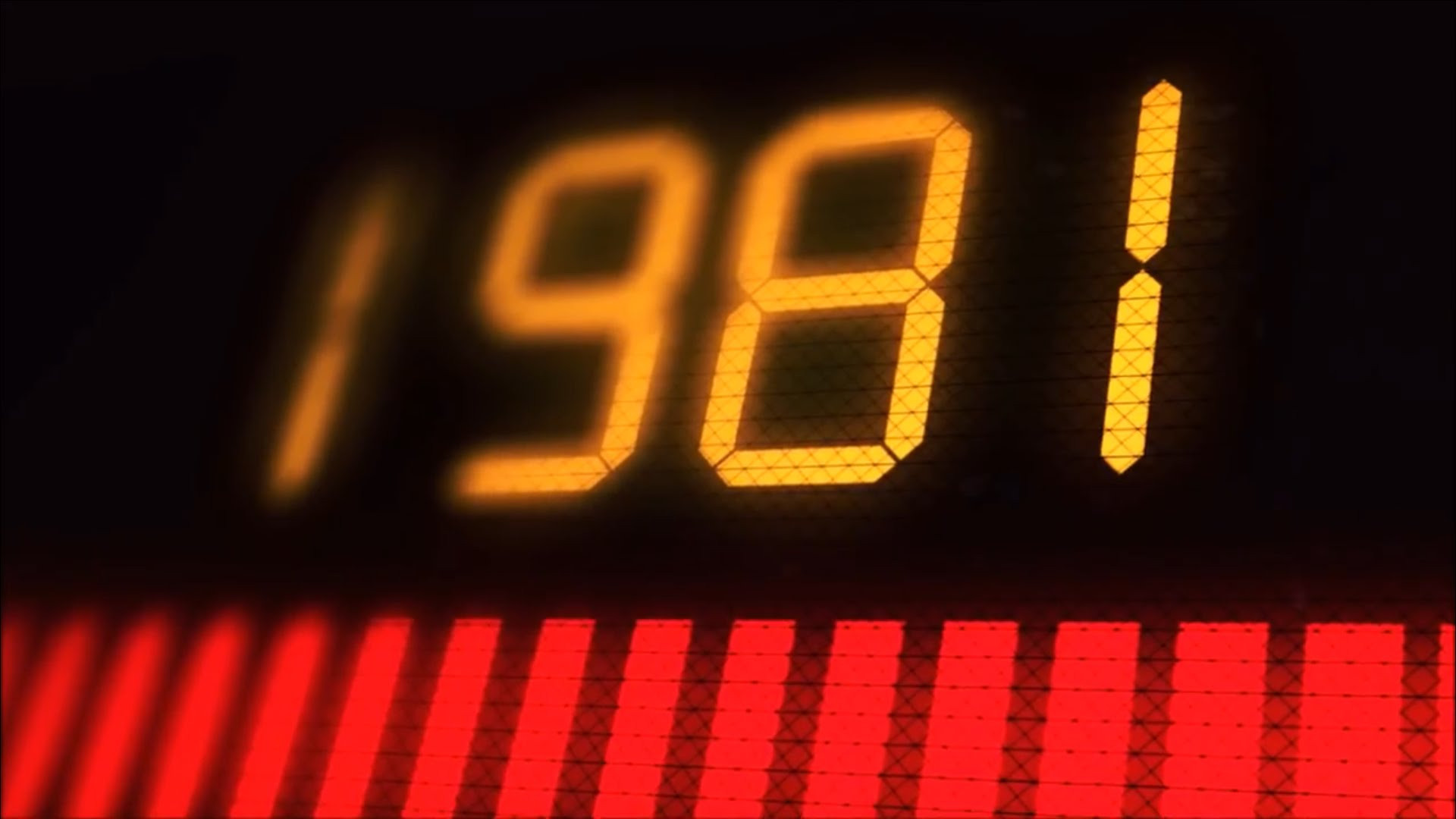
В качестве эпиграфа — видеоклип «Eighties» британской группы Killing Joke (1985): «Я должен бороться… я больше не продаюсь». Гитарный риф из этой песни использовала Nirvana в треке «Come As You Are».
Восьмидесятые вернулись как

Но восьмидесятые — до сих пор не слишком модная тема в российских социальных науках, воля которых к исследованиям недавней истории (recent history) издерживается на анализ «социокультурной ситуации» 90-х годов, которые в отечественном медиапространстве выступают в роли «заградительного мифа», конструирующегося как жупел для общества потребления. «Хаос 90-х» противопоставляется современной эпохе устойчивого роста («необходимо сохранять политический статус-кво, если мы не хотим вернуть Россию в то страшное, голодное время 90-х годов», «Для сводящих концы с концами россиян страх вернуться в ужасы 90-х подпитывает поддержку Путина» и т.п.) Этот поток «антидевяностнической» риторики и социологической аналитики призван, на наш взгляд, затемнить, размыть проблематику восьмидесятых, сделать несерьезной, мелкой и, тем самым, очевидно-понятной. Между тем, ведь именно в восьмидесятые появилось всё то, благодаря чему и в чём сейчас возможно повседневное существование — как материальные вещи (вроде домашнего видео, компьютеров, мобильных телефонов), так принципы и дискурсы — политические, экологические, культурные, моральные. Вся наша современная повседневность вышла из 80-х, можно сказать, из
И это не утрирование. На Западе, особенно в США, за последние 10 лет наблюдается всплеск «серьёзного» интереса к истории восьмидесятых. Так, в 2006 году была опубликована монография историка Филипа Дженкинса «Десятилетие кошмаров: Конец шестидесятых и появление Америки восьмидесятых» [Jenkins 2008] — прекрасное описание генезиса всех тех явлений и трендов, с которыми американцы ассоциируют свои восьмидесятые: засилье рейгановского консерватизма и цензуры, политизация детского тела и детской сексуальности, культурные войны, экологические катастрофы, безудержное потребление. В 2009 году вышел сборник культурологических эссе «Живя в восьмидесятых» [Troy, Cannato 2009], затрагивающих самые разные темы — от депопуляции американских городов 80-х до Мадонны как
Наконец, в марте 2011 года вышло сразу две книги, посвященные 80-м: «Другие восьмидесятые: Тайная история Америки в эпоху Рейгана» Брэдфорда Мартина [Martin 2011] и книга американского журналиста Дэвида Сирота с очень характерным названием: «Назад в наше будущее: Как 1980-е годы объясняют мир, в котором мы сейчас живём, — нашу культуру, нашу политику, наше всё» [Sirota 2011].
Когда вы представляете 80-е, то первое, что вам приходит в голову — слово «большой». В 80-е всё было большим: от подкладных плеч до военных бюджетов.
Сирота замечает, что «начинает происходить что-то странное»: 80-е становятся «крутыми» (cool). Они действительно возвращаются. Снимаются римейки и сиквелы фильмов 80-х: «Хищника», «Пятницы, 13-ое», «Кошмара на улице Вязов»; возвращаются музыканты 80-х: Бон Джови, Брюс Спрингстин, Devo; возвращаются старые телевизионные шоу 80-х; возвращаются компьютерные гиганты 80-х: Apple и Nintendo; тори победили на британских выборах, как в 80-е; Россия шпионит за Америкой, как в старые добрые времена холодной войны.
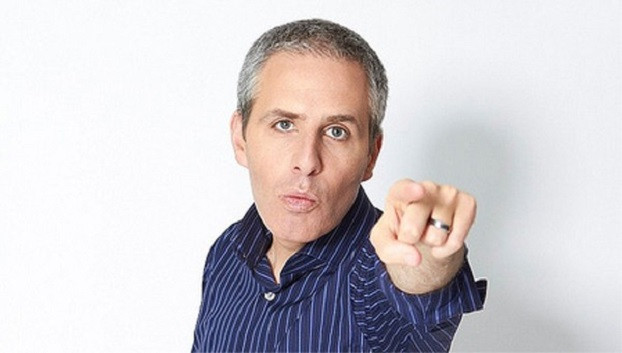
Мир «заговорил на старом языке 80-х». Почему? «Когда вы представляете 80-е, то первое, что вам приходит в голову — прилагательное “большой”». В 80-е «всё было большим»: от причёсок и подкладных плеч до военных бюджетов и расходов на создание блокбастеров. Ярко высвечивает этот аспект 80-х песня Питера Гэбриеля «Big Time» (1986): «С меня хватит, я еду в
«Сам клип забавный, но его смысл (message) очень мрачный… слепые амбиции приведут человечество к взрыву, как [мистера Креозота] в ресторане в “Смысле жизни по Монти Пайтону” [1983]», — отмечает один из комментаторов клипа на YouTube .
На «Big Time» режиссёром Стивеном Джонсоном был снят один из самых известных видеоклипов 80-х (символ MTV того времени). Пластилиновая мультипликация, использующаяся в нем, переполнена хоть и комичными, но в то же время агрессивными и даже отталкивающими образами: лицо Питера Габриеля, расплывающееся в безумной улыбке, копошащиеся микроорганизмы, черепа, вырастающие из шевелящейся, дышащей грязи.
Главный вектор напряжения восьмидесятых годов — страх порчи и разрушения всех этих «больших» конструкций, хрупких и уязвимых «вавилонских башен», выстроенных тем десятилетием. Восьмидесятые — это эпоха катастроф, «обрушивающихся новостроек», и недаром немецкий социолог Ульрих Бек, пораженный масштабами Чернобыльской аварии, в 1986 году опубликовал монографию «Общество риска», где проводилась идея о том, что в современном обществе люди теперь солидаризируются на основе общего экзистенциального страха — страха перед опасностями, исходящими, прежде всего, от техники.
Катастрофа спейс-шаттла «Челленджер», запечатленная в прямом эфире 28 января 1986 года. На борту этого шаттла находилась школьная учительница Криста Маколифф, первое в истории частное лицо, ставшее космонавтом, — но так и не попавшее в космос. Типично «американской мечте», что любой человек, пройдя соответствующий курс подготовки, сможет стать космонавтом, был надолго положен конец.
Такие родные и знакомые в наши дни понятия, как «озоновая дыра», «ядерная зима» и «глобальное потепление» появились или стали популярны именно в 80-е, и именно в 80-е появились современные энвайронментализм и «экологическое сознание».
Восьмидесятые — это и эпоха тотального молодёжного нигилизма, скуки и пофигизма, именно тогда появляется «Поколение Икс», которое осознало, что «контркультура» и протестные движения 60-х и 70-х годов — это просто-напросто рекуперированный культурной индустрией симулякр. В частности, раскрытие в конце 70-х секретного проекта ЦРУ MKULTRA дало пищу для подозрений относительно того, что «ЛСД-революция» и так называемый 1967 год — всё это было вовсе не попыткой освобождения, а совсем наоборот — «экспериментом правительства над мозгами людей».
Замечательно социальные аффекты разочарования и апатии показаны в жестоком фильме «На берегу реки» (1986) с молодым Киану Ривзом: сцена, где школьный учитель вдохновенно объясняет классу, как они, «дети цветов», выходили на улицы с плакатами протестовать против войны во Вьетнаме, как отважно сражались с «полицейскими свиньями», и все это «ради Америки, ради вас, юное поколение 80-х», чтобы «вы получили свободу» и т.д. Классу при этом абсолютно наплевать на все эти пламенные речи, на «завоёванную отцами» свободу, на учителя и на себя самих заодно.

В 80-е молодёжь убивает друг друга (сюжет фильма разворачивается вокруг убийства школьницы её одноклассником), не подводя под это какие-то «рациональные обоснования»; не за «идею», не за «свободу», а — просто от скуки, просто, чтобы «почувствовать себя живым». Мать героя Киану Ривза замечает с горечью: не понимаю я вас, если у нашего поколения были хоть наркотики, то у
В 80-е началась пандемия ВИЧ, и секс стал источником смертельной — именно физической — опасности. Одной из главных хиппи-ценностей 60-х и 70-х была т.н. «свободная любовь», явившаяся эффектом сексуальной революции, появления оральных контрацептивов и новых синтетических антибиотиков, благодаря которым венерические заболевания стали восприниматься как «обычный насморк, который можно вылечить за пару дней» (недаром за десять лет с 1965 года в США заболеваемость гонореей выросла в 2,5 раза и достигла исторического пика в 1975). ВИЧ/СПИД же привел к радикальному переосмыслению телесности и сексуальности, к глубочайшему падению и тотальному осмеянию хиппизма, в издевательствах над которым особенно преуспели панки конца 70-х. За «свободную любовь» и наслаждения бумеров, как и за их фальшивую революцию (именно «революционеры» 60-х стали менеджерами, бизнесменами и консервативными чиновниками 80-х), пришлось расплачиваться Поколению Икс. Считающийся его «голосом» Курт Кобейн писал в своих дневниках:
Мне нравится обвинять поколение своих родителей за то, что они подошли так близко к социальным пepeменам, a потом махнули на все рукой после нескольких удачных попыток средств массовой информации и пpaвительства остановить движение с помощью мэнсонов и прочих представителей хиппи в качестве пропагандистских примеров того, какими все они были непатриотами, коммунистами, сатанистами и нечеловеческими болезнями. И
…В 80-е вообще угроза как таковая была распылена везде — в обществе, в технике, в природе, в индивидуальном теле; она существовала, говоря языком Бодрийяра, в вирусной форме.
…Похоже, в современности возникла некая тоска по «большой идее», которую стали заимствовать из 80-х. Однако эта тенденция разрушительна, как считает Сирота. Ведь именно в 80-е были посеяны зёрна того, из чего выросли современные кризисные явления (в частности, рейганомика и насаждавшийся в 80-е культ потребления, в конечном счёте, и привели к текущей мировой экономической рецессии). Факт возрождения идей и трендов 80-х свидетельствует о том, что сейчас в мире мало условий для генерации свежих идей относительно того, как нужно жить в неспокойном и угрожающем настоящем. И именно поэтому как никогда требуется деконструкция и переосмысление нашего прошлого, а именно — 80-х годов XX в.
Литература:
Jenkins, P. Decade of Nightmares: The End of the Sixties and the Making of Eighties America. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Martin, B. The Other Eighties: A Secret History of America in the Age of Reagan. New York: Hill & Wang, 2011
Sirota, D. Back to Our Future: How 1980s Explain the World We Live in Now — Our Culture, Our Politics, Our Everything. New York: Ballantine Books, 2011
Troy, G., Cannato, V. Living in the Eighties. Oxford: Oxford University Press, 2009.
