Елена Георгиевская. О дискуссиях вокруг Ф-письма
Мы публикуем критическое эссе Елены Георгиевской, содержащее рефлексию на тему некоторых дискуссий вокруг отказа проекта «Ф-письмо» от Премии Андрея Белого.
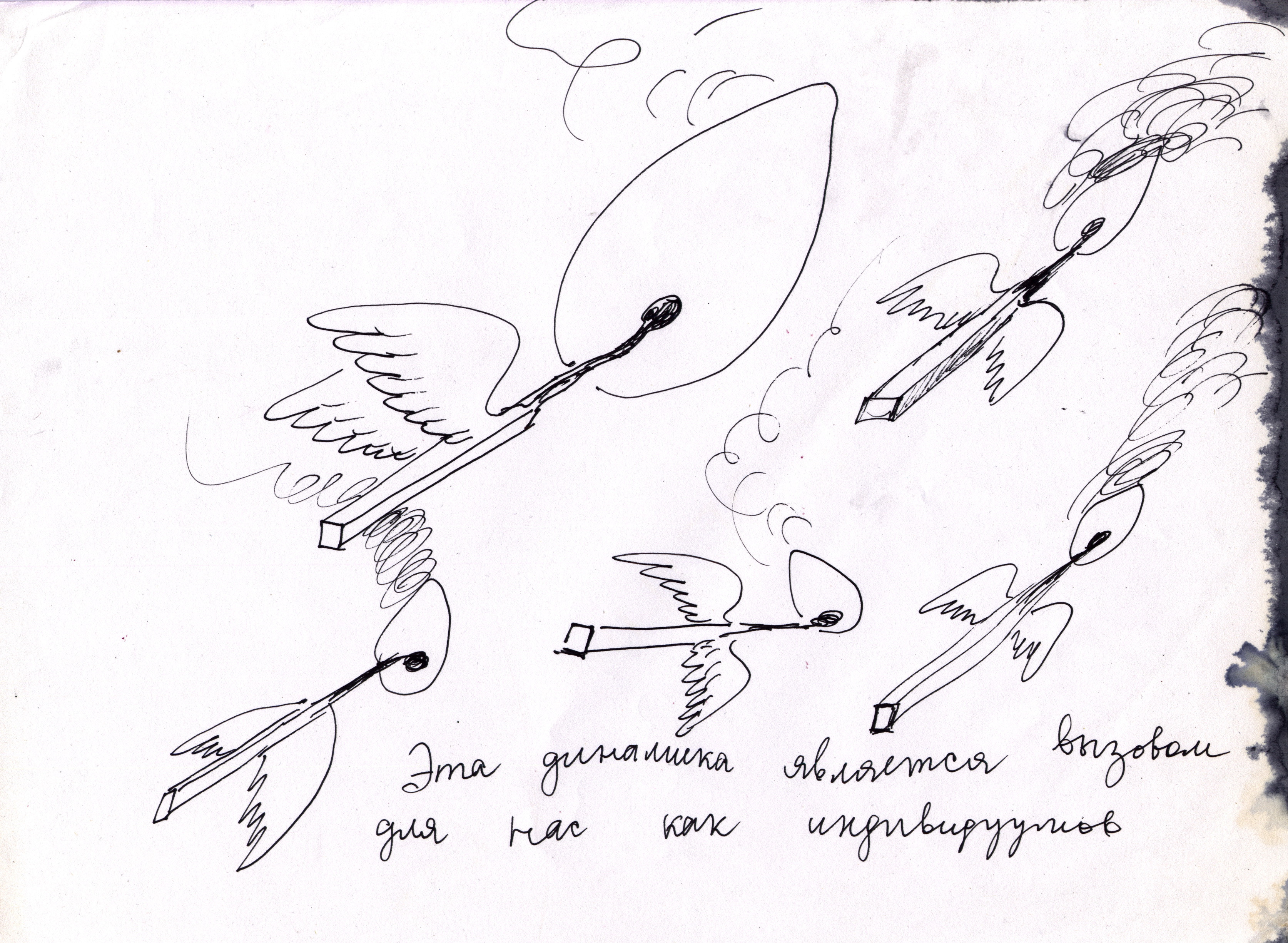
Споры, вызванные отказом «Ф-письма» от премии Андрея Белого, как мне кажется, сформировали ложную дихотомию «Простая прямолинейная заидеологизированная лирика vs Сложное искусство, свободное от идеологических паттернов». Характерно, что некоторые литераторы, родившиеся в 1950 — начале 1970-х годов, упоминают «партком», «союз писателей» и «большевизм», не в силах избавиться от привычки мыслить в рамках «советское/антисоветское», где советское — синоним чего-то примитивного, агрессивного, кондового и унылого. Но такая оптика устарела: хотя «Ф-письмо» включает и участни_ц, в отрочестве заставших СССР, оно не советское и не антисоветское, а попросту вне «советской парадигмы».
Вроде бы это лежит на поверхности, однако критик Валерий Шубинский остаётся в плену советского и по инерции приписывает «Ф-письму» примат идеологического над эстетическим:
«Борьба, которую вели участники второй культуры позднесоветской эпохи — это была борьба за автономию искусства. Поэтому людям, для которых художественное творчество подчинено идеологии (любой) и его собственно эстетическое качество второстепенно, давать премию Андрея Белого нелогично».
Любопытно и другое высказывание Шубинского, проникнутое максималистско-манихейским духом: «Одни стихи пишутся, высокопарно говоря, «для вечности», а говоря не высокопарно — являются самоцелью. «Чтобы было». Другие стихотворные тексты «выражают дух времени» и вообще исполняют некую социально-коммуникативную функцию. Не то чтобы первый путь был «лучше» второго — кто тут судья, и по какому счету он судит? Но просто — либо так, либо эдак. Либо самодостаточный текст, либо выражение духа времени, отражение социальных проблем, борьба за классовые/гендерные интересы и проч.». Но вспомните эпиграмму Байрона на смерть Кэстлри и мысленно замените фамилию адресата на
Во-первых, никто из «Ф-письма» не заявляет, что эстетическое качество не имеет значения: большое количество текстов отвергнуто нами именно
Во-вторых, тенденция примитивизировать феминистское и
Поневоле приходишь к выводу, что феминистскую поэзию, включая и её квир-феминистское ответвление, пытаются выдать за бесхитростную (а значит, малохудожественную) коллективную исповедь женщин, имена которых даже перечислять неохота. Что-то это напоминает. Мария Арбатова в книге «Мне сорок лет» писала, что некий советский работник театра, указывая на пачку женских пьес, говорил: «А здесь у нас лежит сплошная гинекология».
Эстафету старших подхватили и молодые критики вроде Максима Алпатова, который в статье «Выносимая жестокость. О том, что феминистская поэзия предлагает вместо любви» рассматривает исключительно те стихотворения, которые подтверждают его концепцию «феминистской антилюбовной пропаганды». Единственным исключением из выдуманного критиком правила якобы является Дарья Серенко. Алпатов начинает путаться в предмете с первых строк: называет пародию манифестом, выдаёт лирические маски за прямое авторское высказывание, видит агрессивную самопрезентацию там, где о ней речи быть не могло, потому что автор/автриса говорит не о себе.
В-третьих, давайте вспомним совсем недавнее прошлое, когда произведения с профеминистской оптикой или повествующие о
Итак, отказ «Ф-письма» от премии Андрея Белого предсказуемо оборачивается демонизацией и стигматизацией феминистской литературы, а в отдельных случаях — банальной мизогинией и квирфобией, но уважительный диалог в этой ситуации более предпочтителен. Как пишет мой знакомый петербургский учёный: «В тот [советский] период автономия была способом эвакуации письма из официозного дискурса. Теперь вопрос об автономии представляет собой острую проблему, которую надо решать и которую невозможно решить простым включением новых практик в прежние институции. Суть жеста Ф-письма я понимаю именно так: «Нам не нужно, чтобы вы нас легитимировали на своих условиях». И надо обсуждать это, а не ставить друг другу диагнозы по фотографии».
