Между психоанализом и феминистской эпистемологией
18+
Публикуем беседу о феминизме и психоанализе между Аллой Митрофановой, философиней и киберфеминисткой, и психоаналитиком Александром Смулянским, автором семинара «Лакан-ликбез». Диалог феминизма и психоанализа крайне важен, он включает в себя различные точки зрения, поэтому данный диалог выходит с комментариями. Высказаться по поводу этой дискуссии любезно согласились Елена Георгиевская, поэт, прозаик и публицист, транс-персона, участник редакционного совета журнала Ф-письмо, Елена Костылева, поэт, редакторка журнала Ф-письмо, психологиня психоаналитической направленности, студентка философской магистратуры ЕУСПб, Валерия Левчук, философиня, аспирантка философской программы ЕУСПб, исследовательница лакановского психоанализа, и Мария Бикбулатова, редакторка журнала Ф-письмо, философиня, студентка философской магистратуры ЕУСПб.
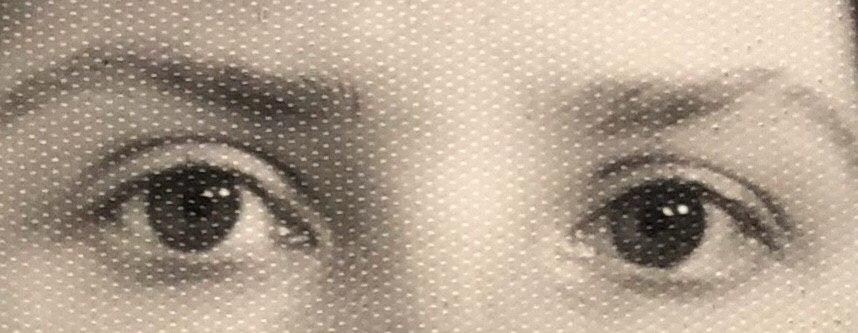
А. Смулянский. Известно, что с самого начала внедрения психоаналитической практики Фрейд постоянно получал от коллег претензии по поводу добросовестности внедряемого им метода — начиная с язвительности врачей общей практики по поводу неоправданной экстраполяции либидинальной теории в область страданий, требующих сугубо медицинской терапии, и заканчивая претензиями психиатров к тому, что воспринималось ими как фрейдовская спонтанность в выдвижении диагноза. Классическими мишенями для недругов аналитического подхода сегодня, как и ранее, являются такие, увековеченные биографами, промахи Фрейда, как случай Эммы Экштейн, получавшей аналитические интерпретации в тот момент, когда ей требовалось хирургическое вмешательство, а также анализ психотизировавшегося в дальнейшем Сергея Панкеева, который, впрочем, неудачей следовало бы считать лишь со значительной долей условности.
В свете этого трудно даже было предположить, что именно случай Доры как один из наиболее благоприятных и бесспорных в качестве невротического диагноза — и в свете этого наиболее всего подходящий для изобретенной Фрейдом психоаналитической проработки — в определенный момент станет в уже в философском сообществе неисчерпаемым поводом для проверки чистоты намерений психоанализа.
В недавно вышедшей книге мной был предложен особый метод прочтения этого случая с позиций, позволяющих заново поверить в нем все то, что для самого Фрейда могло стать своеобразным источником соблазна. При этом мой разбор, основанный на данных структурного психоанализа, не совпадает с критикой, адресуемой Фрейду со стороны философских феминистских направлений середины и конца прошлого века. С этой точки зрения, учитывая, что и к структурному психоанализу у французского и американского современного феминизма есть некоторые претензии, любопытно было бы сличить точки зрения, еще раз спросив, какого рода подозрение, по-вашему, лежало в основе феминистской проблематизации фрейдовского метода.
А. Митрофанова. Фрейдовский психоанализ открывает «новый континент» знания (как Маркс открывает другой континент истории социальных и экономических форм), по определению Альтюссера. Но что значит «новый континент»? Это выход к тому, что не может и не должно быть в знании с позиции классической рациональности. В прежней модели был установлен своего рода фильтр, который возможное новое знание выносит за пределы рационального, это полагает, что нечто не может быть наделено смыслом и ценностью. Обесцененные и невидимые сферы опыта маркируются как «само собой данное» и природно естественное. Такое «естество», вынесенное за пределы культуры и знания, работает как ресурсное и неисчерпаемое и, конечно, эксплуатируемое. Такое естественное/природное «дает сдачи» в виде патологии, неудовлетворенности, бунта, обеднения «реальности». Но классической парадигмой знания бунт «природно данного» трактуется как иррациональность, угроза, хаос, что-то тайное и постыдное, что нужно подавить и нормализовать. Тогда открытие бессознательного — это введение знания в сферу «природно данного». И, конечно, на Фрейда обрушивается эпистемологический гнев классизма со всем вооружением морального пафоса и стыда. Но поскольку основные эпистемологические баталии будут происходить в ХХ и ХХ1 веке, Фрейд еще не знает, частью какого процесса он оказался, он занимается лечением и познанием, ограничивая себя частной сферой домашней сексуальности. Но он уже ступил на зыбкую почву переописания понятий телесности, ее гендерной формализации и сексуального различия. Он вошел в зону эпистемологической недостаточности или даже исключенности. Если Маркс в исключенных увидел пролетариев, то Фрейд увидел сексуализированные тела, корчащиеся в тесных клетках нормативности :-) и бинарной метафизики, установившей непреодолимый разрыв между телом и знанием, природой и культурой, властью и ресурсом, мужским и женским. Не случайно в психоанализ приходят «эпистемологические лишенцы» гендеризированной метафизики — женщины-психоаналитики: Лу Саломе, Мелани Кляйн и др.
Обесцененные и невидимые сферы опыта маркируются как «само собой данное» и природно естественное. Такое «естество», вынесенное за пределы культуры и знания, работает как ресурсное и неисчерпаемое и, конечно, эксплуатируемое.
За возможностью нового знания приходят и пациентки: Дора, Анна О. Фрейд и его пациентки объединены тем же желанием знания. Но это не значит, что предмет знания и его границы у них совпадают. Молодые женщины «замурованы» в той камере женственности, которая для них была отведена гендеризированной биополитикой 19 века: репродуктивная гиперсексуальность, правовая инфантилизация, перекрывавшая доступ к культуре, образованию и способам политического изменения их ситуации. Они обе старательно пытаются реализовать себя через гиперсексуальность, приспособить доступный им инструментарий сексуальности к реализации эмансипаторного потенциала своего женского существования (ложная беременность Анны или попытка солидарности Доры с возлюбленной отца). Обе обнаруживают неудовлетворение этими попытками и покидают психоанализ, который был лишь первым шагом формулирования запроса к знанию. И, если Анна О. (Берта Паппенгейм, см. статью в Википедии) после анализа, и отчасти вопреки анализу, становится известной политической деятельницей суфражистского движения, то история Доры после анализа мне кажется недостаточно проясненной.
Дора со своим бунтарским пафосом оказалась временной союзницей Фрейда. (Не будем забывать, что Дора — это Ида Бауэр, сестра Отто Бауэра, разделявшая его взгляды и жизненные трудности. Отто Бауэр — революционер и теоретик австромарксизма, теоретик права, с 1918 г. секретарь социал-демократической партии Австрии.) Дора, возможно, помогла Фрейду понять его собственный интерес в психоанализе: преодолеть репрессивные авторитарные нормы знания, расширить доступ к натурализованному, т.е. исключенному знанию. Бунтуя, Дора поняла себя как объект обмена в желаниях отца и господина К., она хотела солидаризироваться с мадам К. и тем избавить ее от пренебрежения и от того, чтобы быть предметом обмена между мужчинами. Но Фрейд, в отличие от Доры, не посмел покинуть эпистемологические границы биополитического диспозитива, признал анализ неудачным, т.к. не вернул Дору к гетеросексуальности, т.е. к получению удовольствия в качестве сексуального объекта г-на К. Но Фрейд догадался, что она претендует на место отца, только он не позволил себе признать, что это место политического субъекта и место доступа к знанию и интерпретации желания.

А. Смулянский. Действительно, существует точка зрения, согласно которой Фрейд с изобретенным им анализом оказался на пути прогресса если не женского движения, то, по крайней мере, того, что вы в вашей реплике представляете как качество женского самосознания. Другими словами, как начал позднее подозревать ревниво настроенный к психоанализу философский постколониализм, было в начинании Фрейда что-то такое, что, предоставляя интерпретацию (как мы знаем, Дора получала их в изобилии), не сообщало женщине ничего о том положении, в которое, как кажется, анализ ставит ее дважды — во-первых, оставляя нетронутыми те общественные отношения, которыми ее бытие ограничено, и, во-вторых, еще раз затребовав у нее покорности и доверия к изобретенному Фрейдом методу.
Именно с этой точки зрения психоанализ во второй половине XX века начал получать упреки в солидарности с тем общим биополитическим фоном, присутствие которого интеллектуальная публика отчетливо начала распознавать как репрессивный и, в частности, нацеленный на закрепление за каждым полом определенной участи.
В то же время, эти упреки были бы правомочны, если бы Фрейд действительно находился в первых рядах тех, кто желал бы вменить истерической пациентке неизбежность следования за женской судьбой, которая Доре якобы с общей точки зрения — на самом деле, не следует забывать, что речь идет исключительно о точке зрения ее отца — была уготована. Но дело в том, что Фрейд, даже в отдельных заявлениях солидаризируясь на словах с озвученной вами традиционной перспективой, предпринимает в отношении своих пациенток совершенно не это. На самом деле, невзирая на сильную склонность представленного вами направления критики вернуть фрейдовское начинание в лоно того врачебного сообщества, из которого оно лишь частично вышло по доброй воле, а частично было вытолкнуто, существует постоянно упускаемая часть истории, связанной с возникновением анализа. Как только последний предстал в виде сложившейся практики, доступ к этой истории превратился с точки зрения наследующих Фрейду специалистов в нечто избыточное — о ней не говорят и ее никогда не подвергают формулировке в собственно психоаналитических терминах. Тем не менее, она поддается реконструкции, показывающей, что вниманием самого Фрейда в определенный момент завладела поразившая его мысль о предпринимаемых истерической пациенткой посягательствах не на мужские привилегии, а на внесение корректив в мужское желание как таковое.
С этой точки зрения замыслы истерички были революционны вовсе не в том направлении, в котором мы приучены видеть революционность сегодня, связывая ее с обретением права голоса и способностью говорить от первого лица, отстаивая собственные интересы. До какой бы степени пациентки Фрейда ни были живым свидетельством того, что женщине все это не позволено или позволено в меньшей степени, их желание вовсе не было направлено на то, чтобы это позволение обрести. Напротив, с самого начала страдающая истерией практически неприкрыто заявляла Фрейду, что ее тревогу вызывает положение вовсе не женщин, а мужчин, и что именно мужчина с ее точки зрения лишен в отправлениях своего желания чего-то важного и существенного. Это лишение и превращает его в ригидное, ограниченное, чрезмерно строгое к себе и другим существо, на выручку к которому пациентка намеревается прийти, для чего ей разрабатывается целый фантазматический комплекс, к которому сама она обращается лишь как его изготовитель, а вовсе не владелец и пользователь.
Наблюдая эти ограничения — например, в виде характерной скованности мужского субъекта, его характерной и почти непреодолимой зависимости от мнения ближайшего мужского сообщества, неизбежности панического реагирования на возможность гомосексуального удовлетворения и т.п. — истерическая анализантка стремится совершить со своей стороны преподнесение, которое должно было каким-то образом покрыть ту недостачу наслаждения, за которую мужчина держался как за константу своего положения.
С самого начала страдающая истерией практически неприкрыто заявляла Фрейду, что ее тревогу вызывает положение вовсе не женщин, а мужчин, и что именно мужчина с ее точки зрения лишен в отправлениях своего желания чего-то важного и существенного.
Это истерическое преподнесение и вызвало у Фрейда то, что с осторожностью можно назвать ажиотажем — не в смысле какого-либо воодушевления, а, напротив, в первоначальном значении слова, связанном с незапланированной прибавочностью аффекта. Именно желание, связанное с этим восполняющим фантазмом (а вовсе не свободолюбивые устремления пациентки), спровоцировали с фрейдовской стороны реакцию, которая носила характер ошарашенного несогласия и побуждения так или иначе показать пациентке, что ее ставка ошибочна, и что ей не удастся внести в облик мужского желания те изменения, которые кажутся ей столь насущными.
Здесь и находится тот самый условно реакционный (если вообще описывать его в координатах прогрессизма) момент становления психоанализа, который впоследствии был совершенно упущен, так что его присутствие сохранилось лишь в качестве смутно раздражающей ноты, слышимой сегодня лишь теми, кто в отношении мужского фантазма может питать точно такие же замыслы.
Таким образом, здесь оказывается скорее опрометчивым упрек, будто все совершаемое Фрейдом на этом этапе исходило из презумпции развития психоанализа. Напротив, именно в данный момент Фрейд со своим собственным желанием оказывается на совершенно другом уровне, который пересекался с его профессиональными целями лечения крайне опосредованно. Речь шла о моменте, ради нужд анализа впоследствии Фрейдом преодоленном, хотя, как я показываю в работе, не исчезнувшем полностью из аналитической практики и получившем в ней творческое преобразование. Тем больше, таким образом, причин видеть этот момент в соответствующей ему перспективе, которая, на самом деле, может немало объяснить и в нынешнем состоянии женских движений.
А. Митрофанова. Мне кажется, ваша логика напоминает утопические желания наделить землей крестьян, не отнимая землю у помещиков. Нас интересует, как может вытесненный опыт быть представлен сознанию. Это также интересует Фрейда, Иду Бауэр (Дору), Берту Паппенгейм (Анну О.) — пациенткам надо, наконец, дать их настоящие имена, — а также мной любимых женщин-психоаналитиков авангардных советских 20-х Сабину Шпильрейн, Веру Шмидт. Это невозможно без изменения фрейма, которым поставляется знание, поскольку вытеснение или избирательный выбор опыта (женского в метафизическом смысле) и составляет этот фрейм. Тогда «гениальная» догадка Фрейда о вторжении Доры в желание отца с целью избавить мужчин от ригидности, формирующей их идентичность, можно понять как радикальную смену парадигмы с необходимостью пересборки тел в их воображаемом и повседневных практиках. Столкнувшись с пределом социокультурного канона, он не переходит нормативные границы и его гендерные основания, а возвращает проблему в то же место — Дора не имеет права требовать от отца другого желания, не ее дело указывать, она должна вернуться на свое место. И это приписано девушке, которая поняла, что ей дана роль быть объектом сексуального обмена: отец имеет любовную связь с женщиной, мужу которой в обмен предлагает свою дочь.
Эпистемологические привилегии бессознательно ставят Фрейда в охранительную позицию, т.е. лишают его свободы мышления, а позиция эпистемологического лишения позволяет задавать новую смысловую модель, в случае Иды Бауэр — это более справедливое социальное устройство, политическое отрицание экономического неравенства.
Фрейд полагает, что ее бунт это жертвенный дар ее отцу. И как будто она от него ничего не требует. Это абсолютистское политическое воображение, представьте: есть крайняя форма неравенства, и эксплуатируемые решают эксплуатироваться больше ради того, чтобы суверену помочь свое каннибальство наконец удовлетворить. Это можно предположить, только если допустить, что Дора настолько лишена доступа к речи или рефлексии, что может только мыслить эхолалией, т.е. неосознанным повторением властной речи. И это вполне встроено в психоанализ при том, что психоанализ позволяет открывать новое знание, но при этом на старых культурных и правовых условиях, когда женское — это пассивность, оформленная паттернами природы (тело), а мужское — это речь и разум.
Вы пишете, что по Фрейду Дора принимает ситуацию так: «именно мужчина с ее точки зрения лишен в отправлениях своего желания чего-то важного и существенного. Это лишение и превращает его в ригидное, ограниченное, чрезмерно строгое к себе и другим существо, на выручку к которому пациентка намеревается прийти…» Дора проявляется как «истерическая анализантка, [которая] стремится совершить со своей стороны преподнесение, которое должно было каким-то образом покрыть ту недостачу наслаждения, за которую мужчина держался как за константу своего положения». Согласна, что здесь виден тот критический предел, когда либо надо идти на попятный, либо ломать нормативный фрейм доступа к знанию. И Фрейда это вгоняет в ажиотаж, заставляет сопротивляться гендерно-эпистемологическому радикализму Доры. Иначе ему придется менять всю модель самоидентификации и, более того, образ жизни. Ида (Дора) проявляет больше бесстрашия. И тут интересный вывод: эпистемологические привилегии бессознательно ставят Фрейда в охранительную позицию, т.е. лишают его свободы мышления, а позиция эпистемологического лишения позволяет задавать новую смысловую модель, в случае Иды Бауэр — это более справедливое социальное устройство, политическое отрицание экономического неравенства. Мы не знаем (возможно, пока) текстов Иды Бауэр, но мы знаем полемику ее родного брата Отто Бауэра с Розой Люксембург, знаем программы австромарксистов. Иными словами, как только мы теоретически допускаем, что Дора не только сексуализированное тело (а знание своей сексуальности в пределах метафизического дуализма и есть предложение фрейдовского психоанализа), призванное желать мужское желание, мы сталкиваемся с иным пониманием наслаждения, когда телесное и политическое переопределяются в момент исторического смещения нормы, совершают фазовый переход к иным культурным вариантам.
Поэтому у меня вопросы к психоанализу не изнутри психоанализа, а
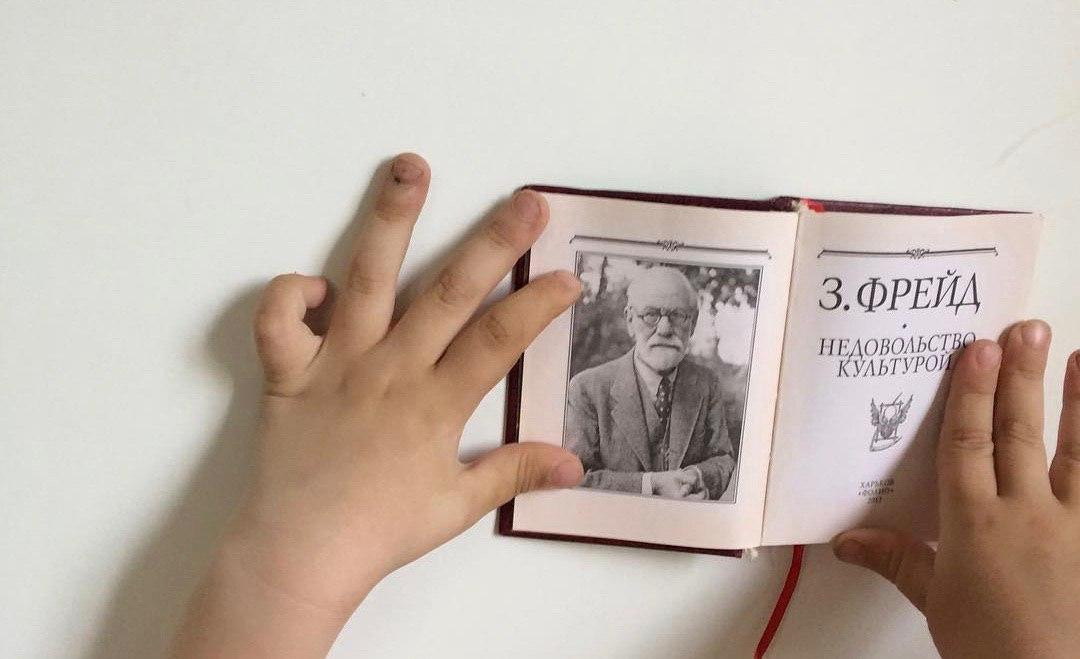
А. Смулянский. Вы говорите о важных вещах, но все же здесь, похоже, есть момент некоторого непонимания. Дело в том, что желание Доры, или Иды, является жертвенным ровно настолько, насколько ситуация мужчины вообще находится в его центре, и ни на йоту больше. Именно этот делаемый пациенткой акцент на мужском положении и возмущает Фрейда, причем его возмущение находится вовсе не в том регионе, где его привыкли воспринимать критически. Чтобы увидеть его, необходимо к клинической оптике, предлагаемой Фрейдом, немного приноровиться, иначе поначалу она кажется одновременно однобокой и парадоксальной. Так, в происходящем в ней нередко видят диктуемую пациенткам необходимость пристальнее обратить любовный интерес на мужской пол вместо преследования женского, что традиционно вызывает в случае Доры наиболее сильное негодование феминистской критики, защищающей право женщин на предпочтение своего пола. На деле Фрейд, вовсе не будучи таким уж страстным гетеронормативным сводником, преследует нечто иное: он пытается сообщить пациентке — пусть и не так опосредованно, как мы ожидаем сегодня от психоаналитика — что мужчина не представляет собой проблемы. «Если вы захотите, то и господин К. и любой другой будет у ваших ног — в мужчине нет той сложности, которую вы ему приписываете, и в конечном счете он, даже будучи болваном, каким он по сути и является, станет делать то, что вы пожелаете. Не печальтесь об этом, лучше займитесь собой, ведь у вас есть какое-то свое желание», — вот что гласило посылаемое Доре Фрейдом сообщение.
Таким образом, оно вовсе не было образцом той матримониальной, нормативной дисциплинарности, следование за которой Фрейду легко приписать с нынешних высот. Речь шла лишь о попытке оборвать то, что Фрейд воспринял как поразительную, не имеющую с его точки зрения оснований фиксацию анализантки на особости мужского положения, делающей мужчину существом иного, непостижимого свойства, вызывающего у пациентки тревогу. С его точки зрения анализантка уделяла этой непостижимости гораздо больше внимания, чем следовало бы женщине менее истеризованной — то есть, по мысли Фрейда, зрелой генитальной особе, которая неплохо знает мужчин и относится к их причудливым душевным свойствам скорее снисходительно. Подобное ранжирование женщин вполне можно записать в куртуазные предрассудки Фрейда, но это не исключает из заданного им вопроса клинической значимости, которая вскоре оборачивается широкими культурными последствиями, поскольку именно Фрейду — задолго до возникновения даже тени присущего нашей нынешней культуре гендерного беспокойства — удалось зафиксировать, что истерические пациентки воспринимают мужское отличие с глубочайшей серьезностью вплоть до попытки фантазматически вжиться в мужской образ, чтобы уяснить, что находится на той стороне, и тем самым распознать, где именно душевное развитие существа мужского пола приобрело такое впечатляющее различие с тем, что знакомо пациентке на опыте взаимодействия с полом своим собственным.
Таким образом, от Фрейда не ускользнуло то, что истерические анализантки питают замысел по своей сути грандиозный, сотрясающий все основы — и этот замысел вовсе не сводился к сугубо поддерживающему обслуживанию мужского положения, к нежному восполнению присущей ему нехватки. Ида, как и описанная Фрейдом другая гомосексуальная пациентка, зашли намного дальше — они посягнули на перспективу изменения, переделывания самого мужского способа желать. Не стоит полагать, что речь идет о намерениях, ушедших в прошлое. Если взглянуть на то, как современный феминизм пытается повлиять на положение дел, здесь также легко усмотреть отголосок стремления причинить мужскому способу желать определенные изменения. Нам, например, рассказывают, что у мужчины «есть право выражать свои чувства» или он «может плакать, когда ему этого захочется». Бесспорно, мужчина может все это делать и, конечно, делает, хотя и обставляя это порой несколько иными символическими декорациями, нежели в случае подобных отправлений со стороны женской. Но в адресованных ему феминистских высказываниях на этот счет просматривается не столько раскрепощающая составляющая, сколько присутствие желания определенного типа. «Было бы превосходно, если бы мужчина проявлял эмпатию и плакал за пределами тех возможностей, которые ему скупо оставляет позиция мужской сексуации как таковой, а также делал бы множество вещей, контрастировавших бы с его нынешней позицией», — вот о чем, собственно, идет речь. Здесь говорят вовсе не о предоставлении пространства для дисциплинарно и гетеронормативно сдерживаемых мужским субъектом проявлений, а о том, что для мужчины и его желания существует другой возможный исход.
Я хочу обратить внимание на то, что с психоаналитической точки зрения (которая сегодня может быть шире и независимее точки зрения социально-критической, сузившейся ныне до рефлекса «защиты прав») не так важно, действительно ли этот иной исход возможен, и насколько к нему закрывает путь то, что сегодня привычно относят на счет социальных масок пола. Дискуссии о гендерном конструировании с любым их возможным результатом не должны отводить внимание от другого, именно Фрейдом впервые замеченного факта, что в самом чаянии этого иного для мужского субъекта исхода активно участвует желание, представшее в современный Фрейду исторический момент в определенной форме — желание истеризованное. Называя его в рамках анализа «истеризованным», мы упираем не на факт его невротичности, а на присущую ему совершенно уникальную адресацию, поскольку оно ниспослано желанию Другого, то есть желанию как таковому.
Речь шла лишь о попытке оборвать то, что Фрейд воспринял как поразительную, не имеющую с его точки зрения оснований фиксацию анализантки на особости мужского положения, делающей мужчину существом иного, непостижимого свойства, вызывающего у пациентки тревогу.
Это значит, что, независимо от того, насколько мужской субъект (любого пола, поскольку мы знаем, что мужская или женская сексуация к биологическому полу привязаны лишь статистически, а не структурно) — независимо от того, насколько желание мужского субъекта может быть преобразовано, возможность подобного преобразования чрезвычайно занимает истерического субъекта. Более того, всякий раз, когда желание подобного преобразования обнаруживает себя, мы можем говорить об истерической ситуации даже в тех случаях, когда ни о каком диагнозе речи не идет. Истеризация в этом смысле не означает какой-либо поврежденности или психического изъяна, но отсылает к наиболее принципиальной постановке вопроса относительно сексуационного различия как такового — различия, не сводимого ни к половому, ни к гендерному способу ставить вопрос.
Это важно иметь в виду, поскольку дело, таким образом, вовсе не сводится к тому, что, как считают многие феминистки, мир вместе с благоприятной переменой в мужском субъекте станет более безопасным или благоприятным для женщин местом. Невзирая на как будто бы очевидное облегчение женского положения в том случае, если мужской субъект действительно может быть подвергнут изменениям, о которых идет речь, невозможно не увидеть, что желание этих изменений не имеет к самим по себе практическим феминистским резонам никакого отношения. Напротив, это желание, скрываемое за эмансипационной программой, переносит акцент на то, что относится к наиболее глубокому удовлетворению женского субъекта в целом — удовлетворению, не имеющему с комфортом или прогрессом ничего общего. Если мы до сих пор не можем об этом удовлетворении сказать ничего существенного, то лишь по той причине, что оно опережающим образом определяет ситуацию, в которой мы сегодня находимся.
А. Митрофанова. Мне представляется, что Фрейд столкнулся с тем, что мы сейчас называем гетеронормативной культурой или мужским культурным каноном, в котором сцена допустимого смысла уже сформирована как иерархия культуры над природой, мужского над женским, разума над эмоциями. Покуситься на желание Другого — это совершить переход от одной эпистемы (диспозитива) к другой, с иными ценностями и логиками. Ида ищет этот переход, не имея языка для постановки проблемы. В теории гендерные рамки доступа к знанию были проанализированы только в 70-90-е (Иригарей, Хардинг, Гросс, Брайдотти…). Иде не нужна власть женщины-вамп — повелевать господином К. Ее претензия к отцу не в том, чтобы восполнить его желание, она не приносит ему жертву, а скорее отменяет его право на желание, предоставленное ему его «картиной мира». Но для такого шага надо распознать мужское доминирование как канон и регулятор смысла, т.е. сделать сложный эпистемологичекий разворот всей сцены. У Фрейда нет такой решимости, он пытается выставить эпистемологическую защиту: Дора, займись своим желанием и не атакуй мужские привилегии во всем социокультурном устройстве. Это похоже на современное либеральное мнение: если вы бедны, то вы ленивы — работайте больше. Эта онто-эпистемологическая слепота всегда работает на тех, у кого есть привилегии. Вы пишете: «Именно этот делаемый пациенткой акцент на мужском положении и возмущает Фрейда… он пытается сообщить пациентке… что мужчина не представляет собой проблемы… лучше займитесь собой, ведь у вас есть какое-то свое желание». Тут напрашивается классический ответ Линды Нохлин («Почему не было великих художниц?») или Вирджинии Вульф («Своя комната»), а также Розы Люксембург («Накопление капитала» о воспроизводстве общества) — займись собой, но у тебя не будет средств, образования, социального положения, твое место уже определено, а девиации аморальны, криминальны и психопатологичны.
Покуситься на желание Другого — это совершить переход от одной эпистемы (диспозитива) к другой, с иными ценностями и логиками.
Таким образом, фиксация Иды на «особом мужском положении, делающем из мужчины персону особого рода», не исправляется «генитальной зрелостью женщины», умеющей манипулировать мужчинами, а должно интерпретироваться как
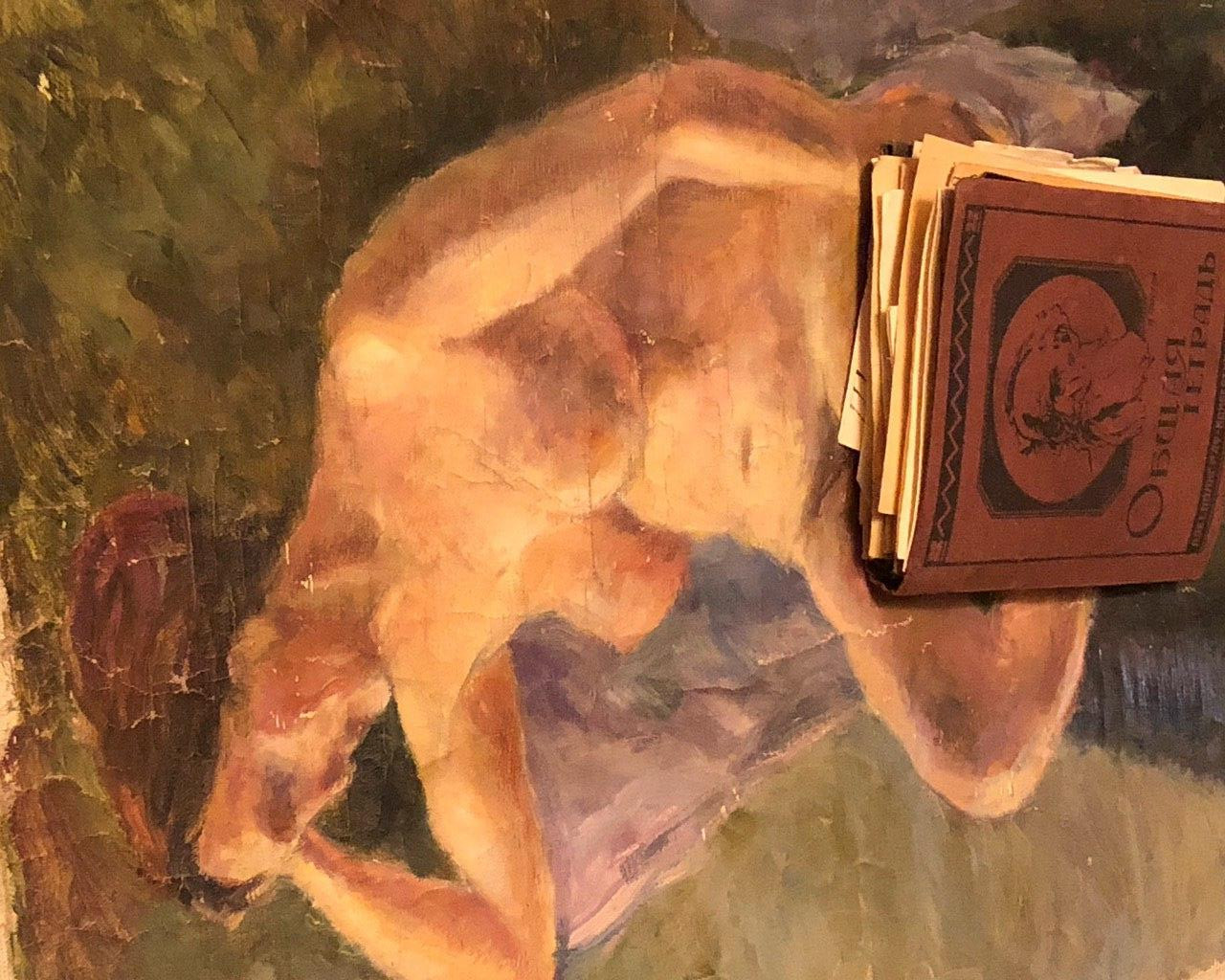
А. Смулянский. Относительно желания Иды Бауэр хотелось бы все же внести правку: ввиду того, что ее анализ так и не был завершен, мы никогда не узнаем до конца о значении роли, сыгранной в ее жизни господином К. По этой причине я бы остерегся уверенно говорить о том, что именно Доре было от него нужно — можно лишь предполагать, что роль эта действительно была значительна и что Фрейд, возможно, даже не до конца уловив ее смысл, в то же время нисколько насчет этой значимости не ошибся.
Что касается затронутой вами теоретической части: вы говорите о расширении, о создании дополнительного пространства гендерных возможностей, по всей видимости, приветствуя эти процессы в той манере, которая действительно была актуальна пару десятилетий назад. С тех пор к этой программе постоянно появлялись вопросы, но, чтобы задавать их эффективно, не следует адресовываться к некоему абстрактному идеалу эмансипации или столь же абстрактному угрожающему ему традиционалистскому горизонту. Гораздо плодотворнее указывать на уже имеющие место явления психической и социальной жизни, которые, независимо от их политического знака, сами по себе ставят под вопрос победоносность шествия в сторону указанных вами ориентиров.
Примером подобных явлений, то и дело всплывающих на поверхность, может выступить нашумевшая не так давно история с русским трансгендерным психологом-беженцем, проживающим во Франции, и опекаемым им «мальчиком Ваней», демонстративно покончившим с собой, а на деле выдуманным и сыгранным взрослой женщиной, по всей видимости, находившейся с психологом в отношениях, о характере которых все стороны предпочли деликатно умолчать, но которые не остались секретом для посвященных в правила особой и довольно интимной кроссгендерной игровой субкультуры, в рамках которой это происшествие имело место.
Любопытно, что и представители феминистских кругов в большинстве своем предпочли об этом происшествии умолчать, хотя связанная с ним повестка более чем тесно соотносится с особой стороной женского движения, чрезвычайно обширной по охвату и влиянию на то, что сегодня продолжают приветствовать в виде упомянутого вами размывания сексуационного компонента. Речь идет об отношениях, порожденных женскими фэндом-сообществами, которые в том числе и для психоаналитика представляют богатую исследовательскую почву.
Невозможно не указать на то, что данное происшествие, практически казус, каким оно кажется на первый взгляд, сообщает о современной женской сексуации и ее границах нечто очень важное. Как правило, в сторону феминизма можно услышать возражение, согласно которому обычный женский субъект якобы не слишком нуждается в его достижениях — или, по крайней мере, в их части. Мнение это, очевидно, наивно, поскольку, сообщая его, не только не знают, от чего отказываются, но и не осознают, кому именно это говорят. Тем не менее, в нем есть некий бессознательный резон, поскольку, запальчиво высказывая его, пытаются не столько сообщить нечто по поводу женских прав, сколько задать вопрос, действительно ли борьба за них может лежать в основе желания субъекта.
Это ключевой вопрос, на который именно с позиций психоанализа мы, по всей видимости, должны ответить отрицательно. Женский субъект более чем эффективно может осваивать открывшиеся для него благодаря правам возможности, но желать — в наиболее фундаментальном смысле термина «желание» — он нередко продолжает в
В этом смысле то, что можно было бы назвать слепым пятном феминистской установки, состоит в проявляемом в феминистских исследованиях поразительном невнимании, которого нередко удостаиваются в том числе масштабные культурные явления, затронувшие современную женскую среду. Даже имея с подобными явлениями дело и, более того, принимая в свои ряды активисток, которые были ими сформированы, феминистская оптика в конечном счете отставляет вытекающую из этих явлений историю и практику в сторону. Та новая, смещающаяся относительно гендера субъектность, о которой вы говорите, вышла вовсе не из книжек Джудит Батлер, а из нескольких поколений женского диссиденства, которое началось в середине прошлого века с образования женских активистских сообществ, а закончило в его конце сообществами игровыми, основанными на правилах кроссгендерных ролевых отыгрышей по произведениям литературы и кинематографа. Именно в этой среде квир-программа Батлер оказалась воплощена вживую даже без малейшего представления о самом существовании этой исследовательницы. Примечательно, что сама Батлер также знает лишь о начале этого пути и ничего не сообщает о его финале, хотя сегодня мы обитаем именно в его эпоху.
Следующие по этому пути сегодня делают это не с чистого листа, но и не под влиянием «пропаганды», а в силу того, что средой обитания нынешнего субъекта является среда авторского художественного высказывания — записанного или экранизированного. Субъект сегодня в своем желании фундаментально ориентирован fiction — и многозначность этого слова (как известно, в английском оно может означать и пустую фантазию, и плодотворный вымысел, и вполне определенное направление литературы) лишь способствует раскрытию всей двусмысленности, в состояние которой такой субъект оказывается помещен, поскольку он не может более совершать то разделение, на которое систематически натаскивался субъект модерна — а именно, не просто отделять вымысел от «реальности», но и не требовать от вымысла того, что он априори не может — опять же, с точки зрения эстетики модерна — предоставить. Нынешний субъект при всей его «расколдованности» и встроенной в него научной критичности тем не менее хочет от художественного персонажа чего-то такого, на что ранее даже в более суеверные и «темные» эпохи никто не посягал. Так, например, он желает получить посредством этого персонажа — обычно и как правило мужского — некое реальное удовлетворение, представ для партнера в психическом облике этого персонажа, но при этом занести полученное посредством подобного переодевания наслаждение на свой счет. Именно в этом двусмысленность данной игры и заключается.
Тот факт, что на территории этой двусмысленности чаще и охотнее всего оказывается субъект женский, заставляет не столько выносить о его качествах определенное суждение, сколько заново ставить фрейдовский вопрос об отсутствии у нас прямого способа к изучению желания женского субъекта как-то подступиться. Пока мы видим одно — нечто, воодушевлявшее Дору и ее интерес к «перелицовыванию мужского» (идет ли речь о желании преобразовать мужское желание в самом мужском субъекте или же, напротив, преобразоваться в таким образом переделанного мужчину, обычно гомосексуального) в описанных современных явлениях более чем актуально.
Женский субъект более чем эффективно может осваивать открывшиеся для него благодаря правам возможности, но желать — в наиболее фундаментальном смысле термина «желание» — он нередко продолжает в
каком-то другом месте
Я говорю об этом так подробно потому, что эти явления указывают на несовпадение целей официальных женских движений с интересами той почвы, на которую их идеи могут — зачастую не без реального успеха — ложиться. То, что в женском диссидентстве примыкающего к нему субъекта интересует, при условии, что речь идет о субъекте, не встроенном в активистскую среду непосредственно, заключается не в практиках какого бы то ни было расширения идентичности или борьбы с угнетением, а в производстве особого типа наслаждения за пределами матримониальной женской генитальности. Именно этому современный чрезвычайно распространенный фэндом- и
В этом смысле чрезвычайно уместным оказывается замечание Маркса о
По этой причине до тех пор, пока умеренный феминизм будет концентрироваться исключительно на вопросе социальной репрезентации женского и его прав, он ничего не сможет в огромном пласте современной женской реализации различить — даже притом, что населяющие этот пласт субъекты более чем активно своими правами на автономию и самоопределение пользуются. Все прописанные молодыми девушками в порождаемой ими самодеятельной сетевой литературе фантазии, где мужчина активно перекраивается, но при этом остается под своим мужским именем и остается в центре женского интереса, указывают на продолжение истории желания, которую в самый момент ее зарождения — а вовсе не на излете, как многим хотелось бы полагать — успел застать Фрейд, и которая сегодня не просто не исчерпана, но по всей видимости принесет с собой расширение требований не к реальному мужчине (на что феминизм рассчитывает), а к фантазматическому преобразованию мужского образа с целью извлечения наслаждения. Этот процесс будет все отчетливее указывать не столько на историю борьбы и протеста, актуальных для последней трети XX века, сколько на возникновение других способов использования фантазма о мужском на территории женского. Подобное расширение можно сколь угодно долго не брать в расчет и не учитывать его в теоретических построениях внутри феминистской повестки, но нельзя не признавать, что женского маргинального субъекта, за которого изначально феминизм и борется, сегодня все отчетливее интересует именно это.
А. Митрофанова. Здесь я с вашей логикой соглашусь при одном существенном дополнении, что это касается не только женской сексуации, что показывает многочисленные случаи транс-женщин. То, что было бинарно приписано женскому наслаждению, можно вернуть гегелевскому самопознающему духу (материи). Это шутка, но можно сказать, что телесная дисфория — это реакция на дисциплинарное принуждение к гендерной бинарности. Трансгендерный переход может быть культурным атлетизмом и самоисследованием для одних и травмой для других. Вероятно, в этом не было бы острого интереса и необходимости, если бы бегство из принудительной бинарности с характерными свойствами эксплуатации как для мужчин (исключающая телесность милитантность), так и для женщин (натурализованная репродуктивность, эпистемологическая нехватка), было бы не истерическим, а культурно легитимным, и не требовало бы медикализации. Телесность не слипалась бы с бинарной сексуацией, а сексуация — с политэкономией гендерной эксплуатации. Мне кажется, что культурно-политический потенциал, например, интерсекс-движения, который стал разворачиваться в последние 10 лет (к сожалению, основные активист_ки движения вынуждены были эмигрировать из России), имеет большое эпистемологическое будущее. У этого движения есть солидарность с квирфеминизмом. Также нужна культурная поддержка новой конфигурации мужского, например, ее пытается проводить организация психологов СПб «Мужчины 21 века». В заключение подчеркну, что богатая и разнообразная теоретическая и политическая история феминизма становится все более востребованной для широкого спектра проблем, и мы это видим в группах программного чтения, изданиях, конференциях.
Спасибо большое за то, что вы инициировали дискуссию и этим позволили сформулировать позицию.
А. Смулянский. И вам.
Комментарии:
Елена Георгиевская.
Читая эту беседу, я невольно поймал себя на мысли о неизбывном, оторванном от реальности теоретизировании, свойственном многим современным цисгендерным мужчинам-философам. Александр Смулянский рассуждает о женщинах и
Также, Смулянский забыл об одном из главных течений радфема — сепаратизме. Сепаратисткам и лесбиянкам не надо «содомизировать отцов»: отец в их реальности — изгоняемая фигура, от которой следует дистанцироваться. Или вольное обращение с терминологией в данном случае доходит до отождествления бегства с содомизацией? Удивительны и пассажи о трансгендерных мужчинах и небинарных персонах с приписанным женским полом. Смулянский не отличает их от гендерно неконформных женщин, к которым относятся и многие трансгендерные женщины-феминистки.
Зачем фантазировать, если можно уточнить информацию? Психолог Рэйда Линн признавался на своей странице ВКонтакте, что предпочёл бы совершить транзишен в подростковом возрасте, как сын Анджелины Джоли, но такой возможности у него не было, а сейчас время упущено: эстроген остановил рост костей. Если небинарные afab часто ограничиваются гормонотерапией, мастэктомией или просто носят утяжку, то некоторые транс-мужчины хотят иметь мужское тело, полностью идентичное «природному», но качественная метоидиопластика обойдётся очень дорого, и даже мастэктомия у хорошего хирурга стоит выше, чем «в среднем по больнице». На комиссию для получения справки f64.0 (так называемый «транссексуализм») и операции многие копят годами, всё это время считываясь как «гендерно неконформные женщины». Есть и латентные транс-мужчины: та самая «Елена Гудкова», разыгравшая роль мальчика Вани, говорила, что ощущала себя мальчиком в детстве, а потом выросла, но внутренний мальчик остался прежним. Почему? Потому что транзишен не состоялся, как у многих из нас, выросших в патриархальной трансфобной среде. Многие хотели бы завершить переход в сорок или пятьдесят лет, но у них семья и/ли карьера, уйти в денайл не получится; а
Рассуждения Смулянского о фандомной культуре, транс-мужчинах как «просто странных женщинах» и «женском сексуальном протесте» — не просто менсплейнинг и стремление всё малопонятное причесать под одну гребёнку, а ещё и цисплейнинг. Философии циснормативных мужчин часто не хватает практики — не потому ли они защищаются от реальности, проецируя свои слепые пятна на феминисток?
Елена Костылева.
Любопытнейшая беседа! В ней Алла Митрофанова говорит о феминизме, а Александр Смулянский отвечает ей… о
Самое слабое место речи Александра — это уравнивание феминизма с истерией. Если такое тождество и можно осуществить, то этот тезис нуждается в обосновании. Истерия — это взрыв, подрыв, утечка репрессированной сексуальности. Но привязать к этому представлению об истерии феминизм будет непросто хотя бы потому, что на уровне идеологии современный массовый феминизм западного типа скорее отказывается от сексуальности, чем высвобождает ее. Есть и иные различия: во многих репликах Александра мы слышим вовсе не «женскую» истерию, не подавленную сексуальность, но истерию как проективное расстройство.
Фрейд считал, что в «состояниях» паранойи и гомосексуальности мы проецируем в других, то есть приписываем им, свои собственные враждебные наклонности. Спроецировав в свою «истеричку» желание проникнуть в мужчину, кружа вокруг этого желания, намекая на него, настаивая, Александр проделывает в этой беседе работу возбуждения, к которой нельзя остаться равнодушной: мне как читательнице этой беседы очевидно, что основное беспокойство Александра связано с формулой «Электра содомирует Отца». Так называлось одно из моих эссе, написанное несколько лет назад.
Но несколько лет назад в России еще не было феминизма как массового движения — не было громких политических дел, с ним связанных, не было борьбы против насилия, не было выраженных правил новой общественной морали, не было даже «телочка-гейта». Наверное, тогда (пожалуй, и для меня самой) «верхом феминизма» было обсудить мужскую анальную девственность (тема, хорошо известная практическим любовникам, но
Алла Митрофанова — из известнейших теоретикесс российского феминизма, но она ведет разговор с собеседником, которого феминизм совершенно не интересует. Реплика за репликой, абзац за абзацем в их разговоре повторяется одна и та же ситуация: Алла говорит о феминизме, а Александр отвечает ей из глубин своего фантазма.
Александр, при всем уважении, при всем восхищении Вашей смелостью (полагаю, что непросто отдать свой текст в руки феминисток, это сродни описанным Фрейдом* фантазиям пациента, представлявшего себя неверной женщиной, испытывавшим беспомощность, сравнивавшим себя с Прометеем, с оставленным среди змеиного гнезда… Считайте это ответной попыткой соблазна), при всей благодарности за прогулку по Бессознательному и при всех возможных реверансах и соблюдении светскости я не боюсь сказать (и даже должна Вам сказать) простую вещь: «Бывает и просто феминизм».
Феминизм — это борьба. У него есть политическое измерение, а не только одна истерическая проективная сексуальность. Это борьба за права. За равенство. Против угнетения. Феминизм — это не за страпоны борьба. Так что в конечном итоге вынуждена констатировать, что надо
Поймите: то, что вы сказали, — это не к нам. Вам не удалось с нами поговорить.
* «О некоторых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуальности».
Валерия Левчук.
Что можно сказать об Иде Бауэр сегодня? Если мы вновь обратимся к случаю Доры, выводя его за пределы психоаналитического кабинета и располагая на пересечении психоанализа и феминизма, то мы сразу увидим, как он образует узловой пункт, где вопросы о женском субъекте и статусе его желания создают напряжение между двумя предприятиями, заслуживающее отдельного осмысления, — что как раз и представлено в диалоге Александра Смулянского и Аллы Митрофановой. Интересна реконструкция своего рода теоретических «первосцен», выведенных на основе этого случая: если психоаналитика желание истерички обескураживает той вопиющей сложностью, которую оно приписывает желанию мужскому, более того, Ида буквально раздражает Фрейда — «какого дьявола она хочет?» — то для феминизма здесь обнаруживается прецедент введения в оборот той инаковости, которая была вынесена за пределы традиционных эпистемологических координат. Это формирует два разнонаправленных теоретических и практических вектора: внимание к бессознательному, с одной стороны, и ставка на конструирование нового эпистемологического порядка и следующие из этого социальные преобразования — с другой.
Кажется, что интрига заключается не только в том, чего же хотела Дора, но и в том, чего хотел от нее Фрейд, — большое количество современных комментариев к случаю Доры, как феминистских авторов, так психоаналитиков, вращается вокруг этого вопроса. Упрощение со стороны некоторых версий феминизма — редуцировать желание Фрейда до стандартного набора патриархальных установок относительно женского, что заставляет усматривать в нем стратегию нормализации или даже подавления. Действительно, иногда и на территории психоанализа обнаруживается то, что можно назвать желанием ничего общего с желанием не иметь: хороший материал для этого оставил нам Феликс Дойч, который написал своеобразный постскриптум к случаю Доры. От Дойча мы знаем, что Ида Бауэр, посещавшая его в зрелом возрасте, так до конца жизни и не рассталась с телесными страданиями, презрением к мужчинам и болезненной тревожностью. Очерк завершается цитатой конфидента из ближайшего окружения Иды, назвавшего ее «одной из самых отвратительных истеричек», — что это, как не попытка задним числом расквитаться со всеми перипетиями истерического желания и привести историю Иды Бауэр к знаменателю «несчастной женской судьбы»? Желание Доры не сводится ни к неспособности подчиниться требованиям генитальной сексуальности, ни к пресловутому бунту против патриархальных устоев, а желание Фрейда не является попыткой посредством властного жеста этот мятеж обуздать.
Случай Иды Бауэр — это коллизия двух желаний, следствия которой представляют наибольший интерес для диалога психоанализа и феминизма. Истерическое желание можно рассматривать на оси тех идентификаций (одновременно мужской и женской), которые превращают его в вопрос: что значит быть женщиной? как девочка ею становится? — вопрос, который затрагивает основы различия полов, а следовательно и самого Фрейда, заставляя отвечать на него желанием собственным.
Мария Бикбулатова. Диалог психоанализа и феминизма видится мне крайне важным процессом: несмотря на свою патриархальную репутацию (намеренно или случайно подпитываемую некоторыми аналитиками) психоанализ наработал инструментарий, который может пригодиться феминисткам в их борьбе, в то время как феминизм может дать психоанализу ресурс для эволюционирования и изживания исторически обусловленных камней преткновения. Однако главным образом психоанализ — это мощная терапевтическая практика, которую многие феминистки обходят стороной
Действительно, любое действие, в том числе политическое, обретает совершенно иной характер, если субъект, производящий действие, что-то понимает про свое желание. Тем не менее, когда феминистка говорит: «Хочу быть защищенной от домашнего насилия, хочу, чтобы мужчины не били своих партнёрш», — это даже не желание, это только необходимый минимум для существования. И если аналитик ей на это отвечает: «Зачем ты хочешь изменить мужское желание? Займись своим собственным и вообще подумай, нужен ли тебе для этого желания феминизм», — это не может не звучать как издевательство, тем более когда этот аналитик по поверхностным признакам считывается как белый гетеросексуальный мужчина.
Мы всё время оговариваемся, что истеричка — это ни в коем случае не оскорбление и даже не диагноз, а просто обозначение для некоторых структурных особенностей субъекта. Мы поясняем, что мужчины точно также могут быть истериками, женщины — обсессивными невротиками, да и вообще гендерная идентификация не зависит от биологической данности. Однако в связи с феминизмом мы продолжаем говорить в основном о женской истерии, хотя если бы мы совместили две эти оптики, мы могли бы задавать психоаналитические вопросы, исходя из всерьёз воспринятой феминистской повестки, мы могли бы всерьёз подумать о том, как истерия у мужчин, их проблемы с гендерной идентификацией и тревога по поводу «мужественности» могут быть причиной насилия (мысль принадлежит Галине Рымбу). Мы вообще могли бы очень многое, если бы достаточно длительный промежуток времени с одной стороны не патологизировали друг друга, а с другой — не отбрасывали весь метод целиком на свалку патриархальных пыточных приспособлений.
18+
