Социолог Михаил Соколов об истоках и типах коррупции в российском высшем образовании
Я хотел бы начать с анализа того, при каких условиях мы в повседневной жизни квалифицируем какую-то событие как проявлении «коррупции». Кажется, что самым общим отличительным признаком коррупционной ситуации является несоответствие между целями, в которых разными агентами используются одни и те же институты, и необходимость для одних коллективно поддерживать в других иллюзию в отношении того, на достижение каких целей эти институты на самом деле в данный момент работают.
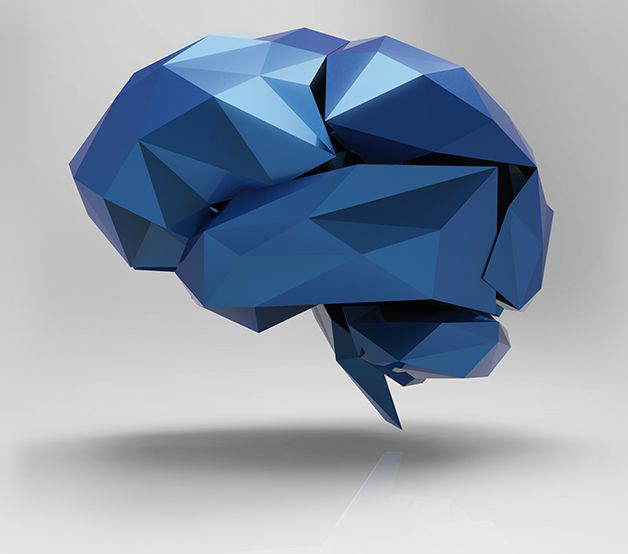
Представим себе, что есть институты, в поддержании которых мы участвуем (прямо или косвенно, например, как налогоплательщики) в надежде на один результат. Кто-то использует их — тайно от нас — для получения другого результата. Если этот секретный результат представляет собой извлечение личной экономической выгоды, и особенно если он при этом затрудняет достижение наших законных целей, мы говорим, что имела место коррупция. Можно ослабить любое из этих условий — и концептуальная граница будет перейдена, ситуация перестанет быть «коррупционной». Взятка является взяткой, если выгода получателя материальна и если извлечение этой выгоды происходит втайне от тех, кто создает рабочее место, скажем, чиновника. Если, напротив, решение суда официально продается, то, как бы мы ни осуждали этот институт, мы не можем назвать его «коррупционным». Если выгода носит неэкономический характер, то она также обычно не подпадает под наше определение коррупции — например, слово обычно не употребляется для описания непотизма, хотя мы и чувствуем, что это явления где-то связанные. Коррупция, кроме того, отличается от мошенничества тем , что в коррупции участвует несколько независимых агентов, а мошенничестве — один агент, хотя иногда и представляющий собой организованную группу из нескольких человек (Кроме того, в случае с мошенничеством, обманутая сторона обычно стремится к извлечению материальной выгоды, а в случае с коррупцией предполагается, что ее цели поднимаются над узкоэкономическими интересами, как в случае с производством любого общественного блага. Это, однако, кажется менее отчетливым различением).
Переходя теперь к образованию, я начну с вопроса, с ответа на который, явного или неявного, начинается большая часть литературы по социологии и экономике высшего образования: зачем люди вообще его получают? Вот некоторое количество разных ответов. Я разбил их на десять ячеек (Таблица 1).

Первый — в объединенной ячейке А1 и А2 — самый, пожалуй, очевидный и самый привычный — люди получают образование, потому что им нужно знания, которые им это образование дает. Этот ответ помещается в таблице в левом верхнем углу. Он предполагает, что образование дает знания, то есть человеческий или культурный капитал (тот или иной термин — в зависимости от социологической или экономической традиции), что-то такое, что есть в голове людей, помогает им жить, помогает им решать те задачи, которые перед ними возникают. Второе объяснение, которое находится, в следующем столбце — это объяснение через социальный капитал. Образование не просто транслирует информацию, которая может быть использована, но в процессе образования люди, которые его получают, приобретают связи. Они знакомятся с преподавателями, которые являются специалистами в
Теории, которые окажутся у нас в левом верхнем углу — это теория человеческого капитала, посередине сверху окажутся те версии институциональной экономики, которые теснее всего связаны с изучением социальных сетей и с сетями как механизмом, снижающим транзакционные издержки. Рыночные сигналы — это термин из информационной экономики версии Спенса и Стиглица. Информационная экономика в теориях образования возникает в связи с неспособностью теории человеческого капитала ответить на простой вопрос: почему спрос на высшее образование растет по мере того, как количество людей, работающих по полученной специальности снижается? В зависимости от того, как определим полученную специальность, цифра будет составлять 20-30% или 40% работающих по ней, но все равно большинство людей не заняты по той специальности, которая записана в дипломе. За что они тогда платят? Теория рыночных сигналов на это отвечает: они платят за сертификат, причем не столько за сертификат, который подтверждает, что у них есть какие-то знания, сколько за сертификат, удостоверяющий наличие более общих навыков, позволяющих им справляться с большими сложностями, которые создает хорошее высшее образование. Вот цитата из интервью, но она похожа на фрагмент из разговора, который большинство из нас, наверняка, слышали: «Я всегда возьму парня с матмеха на любую работу, потому что, если человек закончил матмех, значит, у него голова на месте, он умеет со стрессом справляться и жульничать умеет понемногу». При этом важно не то, что он умеет решать дифференциальные уравнения. На месте дифференциальных уравнений, в общем, могли бы оказаться мертвые языки или что угодно еще, если это что-то достаточно сложное и требует мобилизации разных когнитивных и социальных компетенций.
Дальше по строкам находятся те сферы, к которым эти ресурсы принадлежат. Первые три строки, которые я обозначил «А» и «В» — академические и профессиональные (от английского professional) сферы. Между ними есть очень важное различие, но сейчас говорить о нем нам почти не придется. Это различие между профессиональным капиталом (тем, который приобретают студенты в учебном заведении, а потом идут работать как профессионалы за пределы академической сферы) и специфически академическим, который оставляет их в академической сфере. Вторые собираются однажды поменяться местами со своими нынешними профессорами, а первые ни за что не собираются этого делать. Есть студенты-юристы, которые хотят стать адвокатами, прокурорами, судьями и работать за пределами университета, и
Третья строка — это те же самые разновидности ресурсов, но применимые совсем в другом контексте, в контексте более широкого классового воспроизводства. Теории, которые здесь появляются, в основном не экономические, а социологические, и они говорят, что образование нужно людям в классовом обществе не для того, чтобы искать работу и хорошо с ней справляться, а для того, чтобы сохранить то же положение, которое было у их родителей, а, возможно, и улучшить его. В высших учебных заведениях, говорят нам Веблен, Вебер или Бурдье, оказываются дети из лучших семейств, в которых есть деньги на то, чтобы заплатить за высшее образование и есть возможность вырвать детей из производства на несколько лет. Дети в это время не работают, не обеспечивают себя, не обеспечивают свою семью, хуже того, за них обычно нужно платить в это время. До недавнего времени — до первой половины двадцатого века — такое могли себе позволить только очень обеспеченные семьи. Так вот, когда дети из таких семей оказываются в университете, совершенно не важно, чему они там учатся, потому что система уже начала работу. Важно то, что, во-первых, только богатые могут себе это позволить, во-вторых, когда дети в самый яркий период своей жизни взаимодействуют только с детьми из хороших семей, у них, скорее всего, друзья будут из этих семей и супруги — если высшее образование уже смешанное — будут из этих семей. Статусная группа, элита, а затем какие-то более благополучные сегменты общества обосабливаются от нижестоящих тем, что посылают детей в университет, где они знакомятся с такими же детьми, создают супружеские пары, на всю жизнь выносят дружбу из этого университета. И в эту систему детям из более простых семей никогда не пробиться. То, что в этом университете, якобы, что-то преподается, совершенно не важно. Конечно, желательно, чтобы образование придавало некоторый светский лоск (знать литературу, уметь фехтовать), но такой университет в принципе может существовать без всякого образования. Хотя исторически, обычно, культурный капитал
Десятая ячейка, которая не вписывается в эту таблицу, но для еще одной группы теорий именно она самая важная, — это возрастной мораторий. Люди, которые взрослеют в современных сложных обществах, которым нужно выполнять роли, требующие сложных когнитивных навыков, требующие уметь смотреть на вещи объективно, требующие справляться с очень комплексным окружением, не дорастают до этого быстро, говорят нам Парсонс или Эриксон. Если их просто вбросить во взрослую жизнь сразу после выхода из школы, они потеряются, сломаются, не справятся. Нужно создать специальный возрастной мораторий, который позволит им морально и эмоционально дорасти до роли взрослого. Это как раз университет. Университет — это когда люди могут искать себя, могут найти нишу, которая им наиболее приятна, могут по мелочи узнавать о самых разных вещах, главное — они взрослеют. Современно общество не имеет достаточно взрослых индивидов в 17 лет, взрослые индивиды появляются далеко за 20, поэтому им нужен университет. С этой точки зрения тоже не очень важно, что там преподают, не очень важно, какие связи там транслируются, а важно то, что это такая возможность легитимно существовать, не испытывая давления со стороны окружения, и за эти годы определиться со своей дальнейшей жизнью и со своей дальнейшей судьбой.
Все эти мотивы или все эти причины, для того чтобы получать высшее образование, вполне правдоподобны, и мы легко можем придумать людей или придумать целые университеты, которые работают на удовлетворение определенной потребности из этой группы. Причем некоторые университеты за свою богатую историю успели сменить несколько амплуа. Типу студентов соответствует направленность всего университета. Структура, которая лучше всего справляется с тем, чтобы транслировать человеческий капитал — это структура с очень жесткой образовательной программой, которая не оставляет много пространства для выбора, для проявления индивидуальности. Нужно вогнать какой-то объем знаний за ограниченное время. Это совсем не то, что нужно для того, чтобы обеспечить поддержание социальной среды у детей из высшего класса. Детей из высшего класса лучше не очень сильно нагружать, а то у них не будет времени общаться друг с другом, за чем они, собственно, пришли. Никакой специфический человеческий капитал им не понадобится, поэтому их не надо учить юриспруденции, экономике или чему-нибудь еще. Когда им нужны будут специалисты в этих областях, они наймут каких-нибудь скучных отличников. Им важно дружить с такими же, как они. Пример — вспомните колоритное признание Владимира Владимировича Путина о том, что он пил много пива в университете и иногда по этой причине пропускал лекции. На первый взгляд это значит, что он был плохим студентом и не получил того, чего следовало, от своего высшего образования. Но если вдуматься, ни для исполнения роли резидента, ни для исполнения роли президента, лекции по советскому хозяйственному праву ему не очень пригодились бы. Во-первых, оно было просто не нужно, во-вторых — все равно законодательство бесповоротно изменилось на рубеже 90х, в-третьих — у него явно нет проблем с тем, чтобы нанять квалифицированного отличника-эксперта. Проблема у людей, которые делают такую карьеру, с тем, чтобы иметь надежных друзей, на которых можно полагаться. Эти друзья заводятся в студенческой юности. И пить пиво, с точки зрения политической карьеры, гораздо полезнее, чем ходить на лекции. Университет, который позволяет студентам пить пиво с кем надо и не ходить на лекции — совсем не тот университет, который подготовит из них хороших профессионалов, но вполне может быть тот, который готовит хороших политических лидеров. Каждому типу мотивов или каждому типу стремлений соответствует своя организационная структура.
История некоторых университетов представляет собой миграцию из одного типа в другой. Например, Кембридж, по сути, начинает как религиозное учреждение, с колледжами, повторяющими по своей организации маленькие монастыри, куда отправляются молодые монахи для того чтобы подготовиться к дальнейшему служению. Некоторые из них потом станут государственными администраторами, потому что администраторы вербуются, разумеется, из клириков как единственно грамотных людей. Но большинство занимаются очень специфической религиозной деятельностью. Это Кембридж или Оксфорд в XIII веке. Монастыри распущены в XVI веке. Подготовка священнослужителей, по сути, оказалась за пределами Оксфорда и Кембриджа. Теперь туда отправляют молодых шалопаев. Монахи — это типичное накопление профессионального человеческого капитала. Теперь, в
Так продолжается до XVIII века. В XIX веке постепенно происходит трансформация в сторону исследовательского университета, который — опять совершенно новая штука. Исследовательский университет современного образца — это университет, который по большей части не готовит людей очень жестко к
Пока я описывал только очень благополучную картину, в которой университет не сталкивается с двумя специфическими проблемами. Первая из них заключается в том, что связь между ячейками в одной строке может стать проблематичной. Мы считали до сих пор, что до тех пор, что диплом достоверно сообщает о наличии навыков, знаний и связей, которые университет транслировал. Но ясно, что это не совсем обязательно так, что в некоторых ситуациях появляется возможность для того, чтобы почему-то диплом перестал функционировать как надежный сигнал. Университет может выдать диплом человеку без достаточных ресурсов. Однозначность его коннотаций теряется. Теперь мы видим человека с дипломом, но не знаем о нем ничего. Диплом перестает быть сигналом, на основании которого мы что-то можем сказать об атрибутах его обладателя.
Самая общая теория в социологии, которая имела дело с этими проблемами, обязана своим возникновением социологу канадско-американского происхождения по имени Эрвин Гоффман. Гоффман построил изящную концепцию взаимодействия, исходя из того простейшего наблюдения, что символы социального статуса, то есть сигналы принадлежности к
Университет, если мы посмотрим на него теперь, превращается в организацию, которая выполняет две разные функции. Во-первых, она транслирует какие-то знания. Во-вторых, она сертифицирует их наличия. Во втором смысле университет функционирует как курирующая группа (термин из Гоффмана), которая присваивает символ, и которая гарантирует валидность этого символа — то, что он соответствует атрибутам обладателя символа, которому он присвоен. Это два разных вида работы, которые требуют разных затрат. Организация может проделать одну половину этой работы, не проделав вторую. То, что происходит в результате, — это девальвация символов, в результате которых символ начинает значить несколько меньше, чем он значил раньше. Теперь, видя диплом, мы уже не можем сказать о его носителе что-то такое, что могли сказать раньше. Раньше мы были уверены, что обладатель диплома физфака СПбГУ помнит закон Ома. А сегодня мы можем встретить выпускника физфака СПбГУ, который не помнит закона Ома. Связанные с дипломом предположения о том, что есть элементарные знания физики, оказывается вдруг неверным. Здесь возникает нечто, что подпадает под наше понимание коррупции — университет не исполняет одну из своих функций, которая предполагается потребителями сигнала — и за счет этого извлекает материальную выгоду. Это, однако, лишь один из видов образовательной коррупции — назовем его девальвационным.
Почему девальвация возможна? Есть несколько необходимых для ее возникновения условий. Во-первых, должно произойти схлопывание временной перспективы. В конкурентной системе, в которой университеты пытаются бороться за студентов, а студенты борются за качество своего образования, вузу, который находится высоко, нет никакого смысла девальвировать диплом, потому что, даже если он приобретет новых студентов, то при этом потеряет старых — их сразу перехватят другие вузы. Но это если смотрим по крайней мере в перспективе нескольких лет. Но если перспектива очень короткая, до следующего года, это нормальная экономическая стратегия. В 1990-х годах люди не думали на много лет вперед, и это подстегнуло девальвационную коррупцию.
Во-вторых, трансляция свойств, на которые указывает диплом, должна иметь самостоятельную и существенную цену, на которой можно сэкономить. Самая очевидная заинтересованная в такой экономии группа — это университет, потому что преподавать плохо гораздо проще, чем преподавать хорошо. Затраты преподавательского корпуса существенно снижаются, если мы не ставим перед собой цели кого бы то ни было чему бы то ни было научить. Тогда можно снизить нагрузки, снизить общение с каждым студентом, давать простые контрольные работы, которые гарантировано все напишут и никто не придет на пересдачу, никогда никого не заваливать, не обновлять материалы своих курсов, а пустить все так на самотек, чтобы оно как-нибудь шло: оценки были получены, ведомости сданы, студенты сдали зачеты и экзамены и перешли на следующие курсы, и все были абсолютно довольны. У каждого преподавателя есть большой соблазн сэкономить силы таким образом. На следующем уровне, у каждого университета есть большой соблазн пустить все на самотек, потому что, если ему важно нанять преподавателей, которые будут чему-то учить, то сразу возникает вопрос о том, сколько эти преподаватели будут стоить. Преподаватели, которые учат плохо и оказались в университете, потому что единственная альтернатива университету для них — это, скажем, торговать в круглосуточном магазине — не попросят столько денег, сколько попросит капризный нобелевский лауреат. С капризным нобелевским лауреатом надо возиться, потому что, во-первых, он попросит много денег, во-вторых, он пожелает скостить себе рабочие часы, в-третьих, он потребует лабораторию, в-четвертых, он предполагает, что великому человеку можно, даже нужно, быть эксцентричным. Из интервью, которое некоторое время назад бралось в Оксфорде у бывшего проректора одного хорошего британского университета. Они наняли нобелевского лауреата по физике, а он завалил сразу целый курс — за последний тест он всем поставил неудовлетворительные оценки. К нему приходят и говорят: «Ну почему? Правильно же задача решена». — «Задача — отвечает он — решена правильно, но не гениально. Ни одного проблеска мысли. Вот мы в их годы писали статьи, за которые потом давали нобелевские премии, а эти по учебнику решают. Я не поставлю им ничего другого, и это мое последнее слово. А если вы на меня надавите, я уеду в Америку». С настоящими звездами всегда непросто. Это человек, который, безусловно, может транслировать высокие профессиональные компетенции, у которого есть нужные связи, но с точки зрения минимизации затрат университета на то, чтобы пропустить сквозь себя поток студентов, он — одна большая головная боль. Поэтому университет может легко сделать следующее. Он может начать предоставлять услуги значительно менее ценные, чем те, которые предполагаются. Диплом тот же самый, а содержание уже не то.
Для университета, который в первый очередь транслирует академические и профессиональные знания, этот соблазн довольно велик. Но, вообще говоря, часто есть и сильное ограничение на возможность девальвации. Она предотвращается мониторингом со стороны непосредственных получателей образования. Если университет имеет дело со студентами, которые явились сюда за человеческим/культурным капиталом, то сэкономить на них очень сложно, потому что они постоянно сравнивают образование, которое им дается, во-первых, с образованием, которое требуется на рынке труда, на который они направляются, а
Но этот контроль осуществляется со стороны студентов при выполнении нескольких условий. Прежде всего, нужно, чтобы эти студенты хотели получить человеческий капитал. Во-вторых, нужно, чтобы они могли осуществлять мониторинг. В-третьих, нужно, чтобы у них была альтернатива. Если эти условия соблюдены, тогда, конечно, проблемы девальвации как таковой не возникает. Практически, самым важным из этих условий является первое — студенты должны стремиться осуществить контроль. Они могут не желать этого в силу разных обстоятельств. Прежде всего, они могут хотеть использовать диплом в профессиональных целях, но надеяться, что этот диплом без знаний, но с определенным резервом свободного времени послужит им не хуже, чем диплом со знаниями и без этого резерва. Для студентов, как и для профессоров, учиться плохо проще, чем учиться хорошо. Учиться хорошо отнимает много времени. Иногда стремление сохранить это время — вполне рациональная стратегия профессионального развития. Если какая-то область профессиональной деятельности развивается быстрее, чем учебные программы, то тратить время на учебные программы бесполезно — лучше учиться самостоятельно. Чаще, однако, то, что кажется студенты рациональной стратегией, на поверку оказывается иллюзией, навеянной той же нестабильностью.
Здесь возникает вторая из специфических проблем, о которых я говорил выше. Есть несколько групп, имеющих заинтересованность в протекании образовательного процесса. Во-первых, это университет, который функционирует и как курирующая группа, отвечающая за передачу диплома, и как ретранслятор информации, который реально чему-то учит. Во-вторых, это получатель знаний и символов — студенты. В-третьих, это плательщик, который все это спонсирует. Плательщик может совпадать с реципиентом — в случае, если кто-то платит за себя. Но есть также домохозяйства, плату может вносить корпорация, и практически во всех современных странах некоторую долю расходов берет на себя государство, но эта доля разная. И наконец, есть реципиент, в роли которого выступает любой, кто на основании диплома пытается сделать выводы об обладателе этого диплома. Возвращаясь к началу этого доклада, эти люди могут по-разному понимать свои цели внутри образовательных институтов. Второй тип коррупции возникает, преимущественно там, где понимание плательщика (и, возможно, реципиентов) отличается от понимания массы студентов (и, возможно, профессоров), и студенты более-менее в согласии с профессорами снижают стандарты. Этот вид коррупции можно назвать девиационной. Девальвационная коррупция сохраняет общее понимание желательных результатов образования — профессиональная карьера — но изменяет набор ведущих к ней средств. Девиационная коррупция возникает при отсутствии общности взглядов в отношении желательных результатов. Задачей тех, кто в ней участвует, является поддерживать в плательщике иллюзию того, что все стремятся получить от университета того, что он хочет, в то время, как это неправда — он хочет профессионального роста, а они — классового отличия или возрастного моратория.
Структурным условием возникновения девиационной коррупции является то, что студент не является плательщиком. Если студент сам платит за свое образование, картина сильно отличается от той, которая появляется тогда, когда за его образование платит государство, особенно если государство к тому же выдает стипендии, финансирует общежития и покрывает какие-то другие расходы на то, что студенты это образование получают. Если это так, то стимулов к тому, чтобы благополучно обзаводиться дипломом, не обзаводясь никакими прилагающимися к нему знаниями, гораздо больше. В первом случае, возможна девальвационная, но невозможна девиационная коррупция. Во втором возможны они обе.
Девиационная коррупция выглядит в самой распространенной из своих конфигураций следующим образом: студенты в основном мотивированы мораториально или классово, а плательщик хотел бы видеть в них профессионалов, способных сделать карьеру и при этом поднять национальную экономику. Отметим попутно, что, исторически, нам встречается и прямо противоположная конфигурация — государство более-менее откровенно поддерживает классовое образования, а профессионально или академически мотивированные студенты прорываются в университет, где профессора полуподпольно преподают им последние научные истины. Некоторые моменты в истории российских университетов в 19 столетии напоминают эту совершенно невероятную для нас картину — студенты-разночинцы жадно впитывают запретные материалистические учения вместо того, чтобы стараться подружиться с молодыми аристократами и заручиться их протекцией. Исторически, однако, это
Заметим попутно, что исторический классовый университет был практически не подвержен девиационной коррупции. Девиационная коррупция построена на том, что кому-то можно продать что-то, что, по идее, не должно продаваться в академической сфере. Но классовый университет и так честно заявляет, что продает свое образование тому, кто заплатит дороже всего, и, как правило, делает это без всякой финансовой помощи со стороны государства. Тем более, что он также очень прост в управлении, потому что там никаких требований к образовательным программам, и он может довольно дешево стоить (ну кто пойдет туда, чтобы трудиться в лабораториях?), так что особых затрат и нет. В этом плане, классовый вуз неподкупен.
Аналитически, формы коррупции хорошо различимы, хотя практически мы сплошь и рядом находим их одну поверх другой. Студенты и профессора могут вместе обманывать министерство, делая вид, что создают профессиональный университет, в том время, как в действительности мотивы студентов совершенно классовые. Кроме того, они могут надеяться обмануть потенциальных реципиентов символов классового статуса, девальвирую эксклюзивность диплома — например, если классовый университет втайне снижает размер взятки, работая с оборота и позволяя студентам транслировать неверные сигналы в отношении своего классового статуса (Вообще говоря, университет может делать и без ведома студентов, но тогда корректнее говорить о мошенничестве).
Частично обе формы коррупции преодолеваются мониторингом со стороны внешних курирующих групп или внешних организаций. И сегодня мы видим, как российское государство отчаянно борется за то, чтобы создать структуры (самая активная ныне называется Рособрнадзором), порывающихся осуществить внешний контроль, предполагая, что, если предоставить вузы самим себе, они быстро погрязнут во всех мыслимых формах коррупции сразу. Для этого — предполагают государственные мужи и жены — во-первых, нужно контролировать вступительные требования, а
Вообще говоря, Рособрнадзор был новым словом в российской ситуации. До того сговор в отдельной аудитории был продолжением сговора между университетом и обобщенным государством. Ситуация, которая возникает в 1990-е годы, особенно в начале 1990-х годов — государство предпринимает все меры, для того чтобы провести базовые экономические реформы, не встречая очень большого сопротивления. Людям перестали платить. Все, что можно сделать, это дать им возможность зарабатывать самим и
Если не государственный контроль, то что может поставить насквозь коррумпированный университет под угрозу? Во-первых, может измениться господствующая мотивация учащихся. Вместо студентов, которые хотели классового образования, явятся студенты, которые хотят профессионального или даже академического. Во-вторых, может произойти еще одна вещь, о которой я не говорил ничего. Может перераспределиться политическая власть внутри университета. Та картина, которую я рисовал до сих пор, была очень упрощена в одном отношении.
Мы рассматривали деньги, которые приносят студенты, прямо, в качестве платы за обучение, или косвенно, в качестве государственных субсидии, как основной источник дохода университета. Это часто, но не всегда так. И самые большие трансформации в поведении университетов — связаны с тем, что появляются альтернативные источники доходов и альтернативные, доминирующие внутри университета группы, с которыми эти источники связаны. Для англо-американского университета основных источников доходов будет несколько. Во-первых, как и в России, плата за обучение или правительственные ассигнования. Во-вторых, источником доходов будет эндаумент, то есть целевой капитал, который состоит из пожертвований, с процентов от которого живет университет. В-третьих, есть исследовательское финансирование и контракты. В-пятых, есть пожертвования со стороны выпускников, которые выросли и часто хотят оставить часть своего наследства университету, который закончили. Например, большой университет, типа Оксфорда или Кембриджа, обрастает огромным количеством стипендий. Какой-нибудь богатый, преуспевший афроамериканец, который окончил Кембридж, хочет оставить часть своего состояния для того чтобы ежегодно финансировалось три бедных афроамериканских мальчика, желающих поехать в Англию и окончить тот же самый Кембридж, который окончил он. Поэтому когда появляется способный афроамериканский мальчик, у которого не хватает денег, вспоминают про эту стипендию. Таких стипендий в Кембридже или Гарварде так много, что они правда могут найти деньги любому, кого захотят. Это менее крупный уровень. Более крупный уровень — это очень богатый человек решает построить новый колледж или новый гимнастический зал для всего университета или новый лекторий, или новый бассейн, и чтобы этот лекторий назвали его именем.
Так вот, модель поведения университета в очень большой степени определяется соотношением между источниками доходов. Они строятся примерно в таком порядке, выстраиваются в такую линию — чем в целом считается престижнее, сильнее и богаче университет, тем больше доходов от эндаумента, тем больше исследовательское финансирование, тем больше частных пожертвований со стороны выпускников или доноров и тем меньше зависимости от денег, которые приносят нынешние студенты в той или иной форме. Когда вы спрашиваете людей из Кембриджа или Гарварда: «Вы же экономическое предприятие (возвращаясь к теме, которая была раньше), почему же вы берете каких-то людей, которые вам ничего не платят?» — «Вы же понимаете, — говорят они, — мы берем только очень умных людей, которые за себя не платят. Эти люди вырастут и однажды они захотят сделать что-то для других бедных мальчиков. Однажды они принесут нам пожертвования. В результате мы получим гораздо больше, чем если бы мы взяли какого-то олуха, который заплатит за образование, но никогда ничего в жизни не добьется и наследства нам не оставит». Кажется абсолютной утопией, но посмотрите на бюджет Гарварда, Оксфорда, Кембриджа и любого университета, который входит в первую десятку рейтинга «Таймс». У них больше доходов от пожертвований, чем доходов от платы за обучение. Для Оксфорда я помню цифры: плата за обучение — 21% бюджета, пожертвования — 24% в 2009 году, например. Чем ниже университет, тем он больше он зависит от студентов — или потому, что те платят сами, или потому, что они приносят государственное подушное финансирование — и тем больше вероятность, что он начнет работать, снижая качество своего образования, если студенты хотят именно этого.
Для университета с основными доходами, не связанными с массами абитуриентов, большинство форм коррупции экономически не оправдывают себя. Если деньги поступают от пожертвований или от исследовательских контрактов, то лучше отобрать немного очень хороших студентов, которые прославятся со временем, а пока пригодятся как лаборанты, чем массу лоботрясов. Потери от лоботрясов превысят выгоды, во всяком случае, для непосредственно учащих их людей. Если эти же люди приносят в университет основную долю денег, то ректорату волей-неволей приходится их слушаться — а то вдруг они уйдут, да еще и громкий скандал устроят на прощание?
Это, естественно, контрастирует с тем, что мы видим в России и, шире, на постсоветском пространстве. Во-первых, в России существовала и существует традиционная практика оплаты образования по числу выпускников, которая очень располагает к тому, чтобы выдавать диплом кому угодно. Не выдавать диплом человеку, который хотел бы его получить, у организации нет решительно никаких мотивов. Университеты фактически карают за отчисления — считается, что это доказывает, что они разбазаривали государственные средства, уже вложенные в обучение студента. При этом, доля всех источников, за исключением государственных субсидий и платы за обучение, для примерно 90% вузов составляет менее 10% бюджета. Что на самом деле значит, что от своих профессоров они зависят довольно мало. Во-вторых, как я уже говорил, изменилось поведение государства, которое на некоторое время сократило контроль над вузами, предоставив их самим себе, и это сокращение пришлось на время предельного сокращения временного горизонта, способствовавшего девальвационной динамике. Что создало самостоятельную path dependency. Наконец, есть давно обозначившаяся тенденция превращения высшего образования в классовое, которую то, что произошло в 1990-х, по большому счету только легализовало. Поступление в лучшие вузы СССР как было за взятки или по блату, так и осталось за взятки и по блату. В-четвертых, вопреки всему этому, государство продолжало ориентироваться на официальную технократическую идеологию образования, согласно которой его целью является подготовка кадров для народного хозяйства. Последние два фактора в сочетании дают нам благодатную почву для девиационной коррупции.
Есть ли какие-то основания для ее сокращения? Нет оснований считать, что классовая мотивация массы студентов ослабевает, и в этом плане перспективы связаны, прежде всего, с небольшим количеством институтов, обладающих крайне нетипичной для постсоветского пространства экономической базой — гранты, исследовательские субсидии, контракты с бизнесом. Лишь они могут надеяться стать относительно некоррумпированными, поскольку экономически они зависят от внутренних групп, которые в коррупционном сговоре со студентами заинтересованы минимально — ну не будет Нобелевский лауреат собирать со студентов по 300 рублей за зачет. Таких вузов немного — всего около десятка — и не может стать много, пока вся страна не изменится, тут не надо питать иллюзий. Размер их популяции определяется удельным весом разных источников финансирования в российском высшем образовании, а тут подушное финансирование сильно перевешивает исследовательское (тем более, что значительную часть исследовательского получает Академия наук) или контрактное (которое, опять же, получают выжившие внеуниверситетские центры). Развитие высокотехнологичной промышленности могло бы кое-что изменить в этой области, но, несмотря на многолетние разговоры о ее развитии, пока мы не находим особых намеков на прогресс в этой области. Нынешнее состояние дел позволяет надеяться лишь на подержание изолированных анклавов — если Рособрнадзор в своих безнадежных попытках контролировать всех остальных, не задушит их по ошибке.
Основой для текста послужили стенограммы двух выступлений — в лектории «Контекст» в декабре 2010 года и на семинаре Corruption in the Post-Soviet Educational Systems: Causes, Consequences and Control” в университете Санкт-Галлена в августе 2014. Автор благодарит их организаторов, Оксану Жиронкину и Елену Денисову-Шмидт.
