Ник Лэнд. Тёмное просвещение. Часть 1: Неореакционеры направляются к выходу
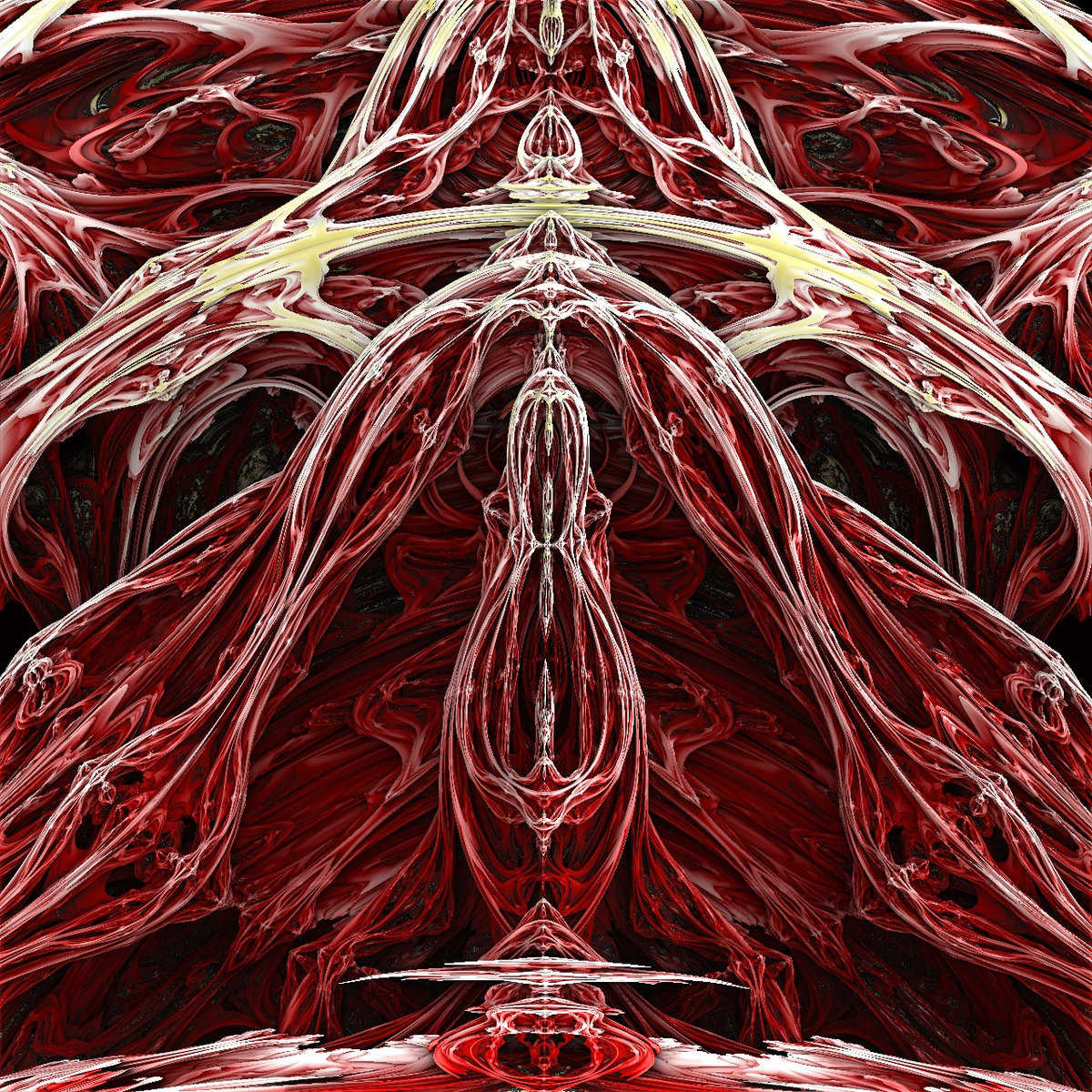
Просвещение — это не только состояние, но событие и процесс. Как обозначение исторического эпизода, происходившего в Северной Европе на протяжении 18 века, он является ведущим кандидатом на «истинное имя» современности, отражая её происхождение и сущность («Ренесанс», «Индустриальная Революция» и другие). Между «просвещением» и «прогрессивным просвещением» есть только неуловимое различие, потому что само просвещение занимает время — и питается самим собой, потому что просвещение является самоутверждающимся, его откровения «самоочевидны», и потому что в силу ретроградности или реакционности, сам термин «тёмное просвещение» фактически самопротиворечив. Стать просвещённым в этом историческом смысле — значит распознать, а затем преследовать путеводный свет.
Очевидно, что просвещение продемонстрировало себя само, предложив не только улучшение, но и его модель. Более того, в отличие от ренессанса, для просвещения нет нужды напоминать об утраченном, или подчёркивать привлекательность возвращения. Первичное признание просвещения есть уже История Вигов в миниатюре.
Как только просвещённые истины будут признаны самоочевидными, назад пути уже не будет, и консерватизм заранее обречён и предопределён на парадокс. Ф.А. Хайек, отказывавшийся характеризовать себя как консерватора, вместо этого остановился на термине «Старый Виг», который как и «классический либерал» (или ещё более элегичный «пережиток») признаёт, что прогресс уже не тот, каким был раньше. Кем же может быть Старый Виг, как не реакционным прогрессистом? И что же это такое?
Конечно, многие люди уже думают, что знают как выглядит реакционный модернизм, и посреди нынешнего упадка к состоянию 1930-х их опасения, скорее всего, только возрастут. В основном это то, что означает "F" слово, по крайней мере в его прогрессивном использовании. Бегство от демократии в этих обстоятельствах настолько точно соответствует ожиданиям, что оно ускользает от конкретного распознавания, выступая лишь как атавизм или подтверждение ужасного повторения.
Тем не менее, что-то происходит и это, по крайней мере частично, что-то другое. Одним из важных этапов стала апрельская дискуссия 2009 года, проходившая в Cato Unbound среди либертарианских мыслителей (включая Патрика Фридмана и Питера Тиля), в которой разочарование в направлении и возможностях демократической политики выражалось с необычной прямотой. Тиль резюмировал данную тенденцию прямолинейно «Я больше не верю в то, что свобода и демократия совместимы».
В августе 2011 года Майкл Линд опубликовав находчивый ответ в защиту демократии, сказал в защиту демократии больше, чем того хотелось бы:
Страх перед демократией со стороны либертарианцев и классических либералов оправдан. Либертарианство действительно несовместимо с демократией. Большинство либертарианцев ясно даёт понять, какой из двух вариантов они предпочитают. Вопрос лишь в том, почему кто-то должен обращать внимание на либертарианцев.
Линд и неореакционеры, похоже, в целом согласны с тем, что демократия — это не только (или даже) система, сколько вектор с безошибочным направлением. Демократия и «прогрессивная демократия» синонимичны и неотличимы от расширения государства. Несмотря на то, что «крайне правые» правительства в редких случаях останавливали этот процесс, его разворот лежит за пределами демократических возможностей. Поскольку победа на выборах в подавляющем большинстве случаев является вопросов покупки голосов, а информационные учреждения (образование и СМИ) не более устойчивы к подкупу, чем электорат, экономный политик — это просто некомпетентный политик, и демократический вариант дарвинизма быстро устраняет неудачников из генофонда. Это реальность, которой левые аплодируют, правые сварливо принимают, а либертарианцы неэффективно ругают. Однако всё больше либертарианцев перестаёт заботить, «обращает ли кто-либо на них внимание» — они ищут совершенно иное — выход.
Заглушение либертарианского голоса демократией является структурной неизбежностью, и, по мнению, Линда, так и должно быть. Всё больше либертарианцев, вероятно, согласятся с этим. «Голос» — это сама демократия, в её исторически доминирующем, Руссоистском варианте. Он моделирует государство как воплощение публичной воли, а быть услышанным означает больше политики. Если голосование как массовое самовыражение политически уполномоченных масс — это кошмар, охвативший весь мир, то добавление шума не поможет. Даже больше, чем противостояние Равенства и Свободы, противостояние Голоса и Выхода является растущей альтернативой и либертарианцы выбирают безмолвное бегство. Патри Фридман замечает: «мы думаем, что свободный выход является настолько важным, что мы назвали его Универсальным правом человека».
Для хардкорных неореакционеров демократия не просто обречена, она сама обрекла себя на гибель. Бегство от этого приближается к высшей стадии. Подземное течение, которое движет такой анти-политикой узнаваемо Гоббсовское, последовательное тёмное просвещение, с самого начала лишённое какого-либо руссоистского энтузиазма к народному самовыражению. Предрасположенное во всех случаях воспринимать политически пробуждённую массу как воющую иррациональную чернь, оно понимает динамику демократизации как фундаментально дегенеративную, систематически консолидируя и обостряя личные пороки, обиды и недостатки до того, как они достигнут уровня коллективной преступности и всеобъемлющей социальной коррупции. Демократические политики и и электорат связаны между собой цепью взаимного подстрекательства, в которой каждая сторона доводит другую до всё более бесстыдных крайностей улюлюканья, гарцующего каннибализма, пока единственная альтернатива крику не оказывается съеденной.
Там, где прогрессивное просвещение видит политические идеалы, тёмное просвещение видит аппетиты. Оно признаёт, что правительства состоят из людей, и они будут хорошо питаться. Ставя свои ожидания как можно ниже, оно стремится лишь избавить цивилизацию от бешеного, разрушительного и прожорливого разврата. От Томаса Гоббса к
Хоппе выступает за
Как наследственный монополист король рассматривает территорию и людей, находящихся под его властью как свою личную собственность и участвует в эксплуатации этой «собственности». При демократии монополия и монополистическая эксплуатация не исчезают. Скорее, это происходит так: вместо короля и дворянства, которые считают страну своей частной собственностью, монополистом страны является временный и сменяющийся смотритель. Смотритель не владеет страной, но, пока он находится на своём посту, ему разрешено использовать её в своих интересах протеже. Он владеет её текущим использованием — узуфруктом, но не её основным капиталом. Это не исключает эксплуатации. Напротив, это делает эксплуатацию менее расчётливой и проводится без учёта основного капитала. Эксплуатация становится недальновидной и потребление капитала будет систематически поощряться.
Политические агенты, наделённые многопартийными демократическими системами преходящей властью имеют подавляющий (и демонстративно непреодолимый) стимул грабить общество с максимально возможной скоростью и полнотой. Всё, что они пренебрегают украсть или от чего воздерживаются — похоже, будет унаследовано политическими приемниками, которые не только тесно не связаны, но и фактически противостоят друг другу, и и поэтому можно ожидать, что они будут использовать все доступные ресурсы в ущерб своим противникам. Всё, что остаётся позади, становится оружием в руках вашего врага. А значит, лучше всего уничтожить то, что не может быть украдено. С точки зрения перспективного демократического политика любое социальное благо, которое не может быть непосредственно присвоено или приписано (их собственной) партийной политике, является пустой тратой времени и ничего не стоит, в то время как даже самое тяжёлое социальное несчастье, до тех пор пока оно может быть присвоено предыдущей администрацией или отложено до следующей, фигурирует в рациональных расчётах как очевидное благо. Долгосрочные техно-экономические улучшения и связанное с ниими накопление культурного капитала, составляющего социальный прогрес в его старом (Виговском) смысле, не представляют ни для кого политического интереса. Пока демократия процветает, они находятся перед непосредственной угрозой исчезновения.
Цивилизация как процесс неотличима от уменьшения временного предпочтения (или снижения озабоченности настоящим по сравнению с будущим). Демократия, которая как в теории, так и в явных исторических фактах акцентирует временные предпочтения до точки судорожного безумия настолько близка к определённому отрицанию цивилизации, насколько это вообще возможно, за исключением мгновенного социального погружения в убийственное варварство или зомби-апокалипсис (к которому она в конечном счёте и ведёт). По мере того, как демократический вирус выжигает общество, кропотливо накапливаемые привычки и установки на дальновидные, благоразумные человеческие и промышленные инвестиции сменяются бесплодным оргазмическим консьюмеризмом, финансовой несдержанностью и «реалити-шоу» политического цирка. Завтрашний день может принадлежать другой команде, поэтому будет лучше съесть всё это сейчас.
Уинстон Черчилль, который заметил в неореакционном стиле, что «лучший аргумент против демократии — это пятиминутная беседа со средним избирателем», более известен тем, что он предположил, что «демократия — это худшая форма правления за исключением всех других, которые были опробованы». Пока никто не признал, что «ок, демократия отстой (на самом деле она действительно отстой, но какова альтернатива?», подтекст очевиден. Общий тон этой чувствительности привлекателен для современных консерваторов, потому что он резонирует с их искажённым и разочарованным принятием неустанного ухудшения цивилизации и связанного с этим интеллектуальным восприятием капитализма как неаппетитного, но неотвратимого краха социального устройства, которое остаётся после того, как все катастрофические или просто непрактичные альтернативы отброшены. Рыночная экономика, исходя из этого понимания, не что иное, как спонтанная стратегия выживания, возникающая на руинах политически опустошённого мир. Всё, вероятно, будет только ухудшаться. Так оно и происходит.
Итак, какова же альтернатива? (Конечно, нет никакого смысла рыться в 1930-х годах ради этого). «Можете ли вы представить пост-демократическое обществао 21 века? "Кто увидел себя выздоравливающим от демократии, подобного тому как Восточная Европа видит себя выздоравливающей от коммунизма?» спрашивает у неореакционеров верховный Лорд Ситхов, Менциус Молдбаг. "Ну, я полагаю, что это один из нас.
Формирующее влияние Молдбага австро-либертарианское, однако с ним покончено. Как он объясняет:
…либертарианцы не могут представить реалистичную картину мира, в которой их битва выигрывается и остаётся выигранной. Они заканчивают тем, что ищут способы подтолкнуть мир, в котором единственный путь государства, заключающийся в падении вниз по склону, должен расти обратно в гору. Эта перспектива сизифова, и понятно, почему она привлекает так мало сторонников.
Его пробуждение в
Для неокамералиста государство — это бизнес, который владеет страной Государство должно управляться как и любой другой крупный бизнес, путём разделения логической собственности на договорные акции, каждая из которых приносит определённую долю прибыли государства. (Хорошо управляемое государство очень прибыльно). Каждая акция имеет один голос, и акционеры избирают совет директоров, который нанимает и увольняет менеджеров. Клиенты этого бизнеса — его постояльцы. Прибыльно управляемое неокамералистское государство, как и любой бизнес, будет обслуживать клиентов всё эффективнее и эффективнее. Неправильно правительство — это неправильное управление.
Во-первых, необходимо разрушить демократический миф о том, что государство «принадлежит» гражданам. Точка зрения неокамерализма заключается в том, чтобы выкупить реальных посредников суверенной власти, а не увековечивать сентиментальную ложь о массовом предоставлении избирательных прав. Пока собственность на государство формально не перейдёт в руки его фактических правителей, неокамеральный переход попросту не состоится, власть останется в тени, а демократический фарс будет продолжаться.
Во-вторых, правящий класс должен быть правдоподобно идентифицирован. Следует сразу же отметить, что в отличие от марксистских принципов социального анализа, это не «капиталистическая буржуазия». Логически это невозможно. Власть бизнес-класса уже чётко оформлена в денежном выражении, поэтому отождествление капитала с политической властью является совершенно излишним. Необходимо, скорее, спросить, кому капиталисты платят за политические услуги, сколько потенциально стоят эти услуги и как распределяются полномочия, чтобы предоставить их. Это требует с минимумом морального раздражения, чтобы весь социальный ландшафт политического подкупа («лоббирования») был точно нанесён на карту, и административные, законодательные, судебные, медийные и академические привилегии, доступные подобным взяткам, были преобразованы в взаимозаменяемые акции. Поскольку избиратели стоят подкупа, нет никакой необходимости полностью исключать их из этого расчёта, хотя доля их суверенитета будет оценена с соответствующей насмешкой. Завершением этого упражнения является преобразование правящего субъекта, который является действительно доминирующей инстанцией демократического государства. Молдбаг называет это Собором.
В третьих, формализация политических полномочий обеспечивает возможность эффективного государственного управления. Как только вселенная демократической коррупции будет преобразована в (свободно передаваемый) пакет акций правительственной корпорации, собственники государства могут инициировать рациональное корпоративное управление, начиная с назначения генерального директора. Как и в любом бизнесе интересы государства на данный момент точно формализованы как максимизация долгосрочной акционерной стоимости. Больше нет никакой надобности для резидентов (клиентов) проявлять интерес к политике вообще. По факту это означало был возможность применить свои полукриминальные наклонности. Если правительственная корпорация не выставляет приемлемую ценность своих налогов (суверенной ренты), они могут объявить свою функцию обслуживания клиентов и, при необходимости, взять их заказ где-нибудь в другом месте. Правительственная корпорация сосредоточилась бы на управлении эффективной, привлекательной, жизненно важной, чистой и безопасной страной, способной привлечь клиентов. Никакого голоса, свободный выход.
…хотя полный неокамералистский подход никогда не был опробован, его ближайшими историческими эквивалентами являются традиция просвещённого абсолютизма 18-ого века, представленная Фридрихом Великим, и недемократическая традиция 21-ого века, которую мы можем видеть в таких бывших колониях Британской империи, как Гонконг, Сингапур и Дубаи. Эти государства, по-видимому, предоставляют своим гражданам очень высокое качество услуг, не имея никакой какой-либо демократии. У них минимальный уровень преступности и высокий уровень личной и экономической свободы. Как правило, они довольно зажиточны. Они слабы только в политической свободе, а политическая свобода по определению не имеет значения, когда правительство стабильно и эффективно.
В европейской античности демократия была признана как привычная фаза циклического политического развития, фундаментально упадочная по свой природе и предшествующая сползанию к тирании. Сегодня это классическое понимание основательно забыто и заменено глобальной демократической идеологией, полностью лишённой критической саморефлексии, которая утверждала не как заслуживающий доверия научно-социальный тезис или даже спонтанное популярное стремление, но скорее как религиозную веру специфического, исторически идентифицируемого вида:
…принятую традицию я называю универсализмом, который является нетеистической христианской сектой. Некоторые другие современные ярлыки для этой же традиции более или менее синонимичные — это прогрессивизм, мультикультурализм, либерализм, гуманизм, левизна, политкорректность и тому подобное. Универсализм — это доминирующая современная веть христианства кальвинистского толка, развивающаяся из английской диссентерской или пуританской традиции через унитаристские, трансценденталистские и прогрессивные движения. Его преемственный куст также включает в себя несколько таких боковых веточек, которые достаточно важны, чтобы назвать их, но чьи христианские предки чуть лучше скрыты, как Руссоистский ласизм, Бентамовский утилитаризм, Реформистский иудаизм, Контианский позитивизм, Германский идеализм, Марксистский научный социализм, Сартровский экзистенциализм, Хайдеггерианский постмодернизм и т.д. и т.п. Универсализм, с моей точки зрения, может быть лучше всего охарактеризован как мистический культ власти… Трудно представить себе универсализм без государства как малярию без комара… Дело в том, что этой штуке, как бы вы её ни называли по меньшей мере двести, а, возможно, и больше пятиста лет. По сути это сама Реформация… И просто подойти к нему и осудить его как зло это всё равно,что подать в суд на
Для того, чтобы понять возникновение затруднительности нашего текущего положения, характеризующегося безжалостной, тотальной экспансией государства, распространением ложных позитивных «прав человека» (претензий на ресурсы других, подкреплённых принудительной демократией), политизированных денег, безрассудных евангелических «войн за демократию» и всестороннего мыслительного контроля, выстроенного в защиту универсалистской догмы (сопровождающейся деградацией науки в государственную функцию общественных отношений), необходимо задаться вопросом о том, как Массачусетс пришёл к завоеванию мира, что и делает Молдбаг. С каждым годом международный идеал разумного управления находит себя приближающимся к стандартам, установленным Grievance Studies departments of New England universities. Таково божественное провидение пустословов и уравнителей, возведённое в планетарную телеологию и закреплённую как правление Собора.
Собор заменил своей проповедью всё, что мы когда-либо знали. Рассмотрим проблемы, выраженные отцами-основателями Америки (составлено ‘Liberty-clinger’)
Демократия — это не что иное, как правление толпы, где 51% людей может отнять права у остальных 49%. — Томас Джефферсон
Демократия — это когда два волка и ягнёнок, голосующие за то, что есть на обед. Свобода — это хорошо вооружённый ягнёнок, оспаривающий право голоса. — Бенджамин Франклин
Демократия никогда не длится долго. Вскоре она становится негодной, истощается и убивает саму себя. Никогда ещё не было демократии, которая не совершала бы самоубийства. — Джон Адамс
Демократия всегда была зрелищем беспорядков и раздоров: всегда считалась несовместимой с личной безопасностью и правами собственности; и в целом её жизнь была столь же короткой, сколь насильственной в её смерти. — Джеймс Мэдисон
Мы — Республиканское Правительство, Подлинная Свобода никогда не встречается в деспотизме или крайностях демократии… это было замечено, что чистая демократия, если бы она была практически осуществима, была бы самым идеальным правительством. Опыт доказал, что нет более ложной позиции, чем эта. Античные демократии, в которых народ сам принимал решения, никогда не обладали ни одной хорошей чертой правления. Сам их характер был тиранией. — Александр Гамильтон
Подробнее о голосовании ступнями (и сверкающем гении Молдбага), в будущем.
Добавленная запись (7 марта):
Не стоит доверять приписываемой Бенджамину Франклину цитате. По словам Барри Попик эта поговорка, вероятно, была изобретена Джеймсом Бовардом в 1992 году (Бовард замечает в другом месте: «есть и более опасные ошибки в политическом мышлении, чем приравнивание демократии к свободе»).
