Текст Вадима Скворцова "Календарная Пятница". Игольница #2
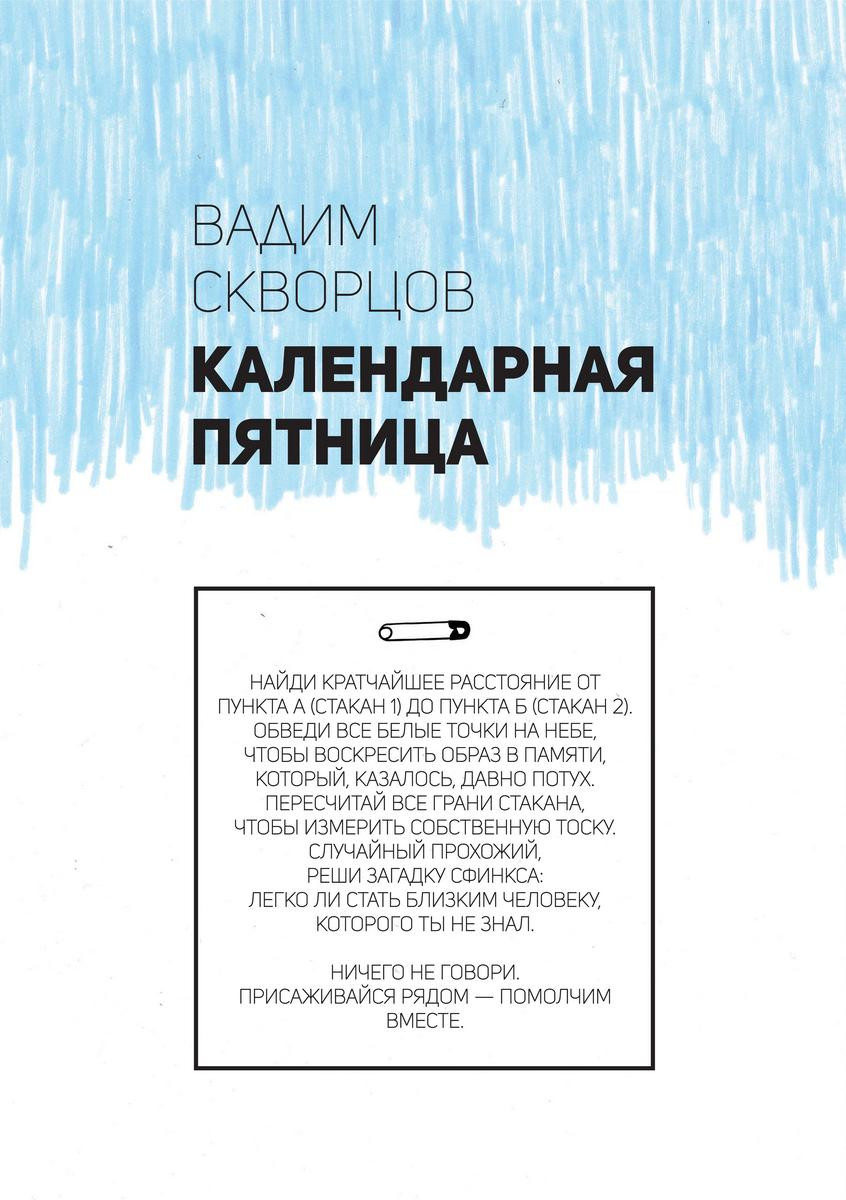
Была среда, равная пятнице, был вторник, равный четвергу. На стене висел календарь, и чёрным по белому было написано «среда», но вокруг было ощущение пятницы, той самой пятницы, когда все вечером возвращаются с работы домой и бросаются с облегчением на диван, словно сегодня их мучения закончились, пусть и ненадолго. Сегодня пятница, а все остальные дни, вплоть до календарного воскресенья — одна большая суббота, самая настоящая суббота, коей русский человек упивается до краев, как только продирает красные глаза и до того момента, пока тело само не откажется от реальности и не забудется сном. Этот день противоположен всем остальным: в будний день необходимо ложиться и вставать как можно раньше, а в этот — позже, чтобы доспать всё уставшее, отдохнуть всё отмученное. Суббота — есть лучшее время, чтобы задуматься над тем, кто я, а кто они.
— Буханку сергеевского и соль, пожалуйста.
Бабушка кропотливо отсчитывает ровно тридцать рублей.
В одну из таких странных пятниц календарной среды я в очередной раз возненавидел свой будильник. Приоткрыв глаза, я наблюдал привычную картину: как моя матушка бешено носится по дому взад и вперед, и шаги её отдавали в виски молотком, который никак не может забить гвоздь. Для моей матушки разводить суматоху было обычным делом, стоило потерять ей одну мелкую бумажку, как она готова была перевернуть все вокруг. Самое страшное в этот миг — встретиться ей на пути, ибо если ты будешь ей возражать или скажешь хоть слово против, то готовься выслушать обвинения во всех смертных грехах — она припомнит тебе все, что было и не было. Поэтому я всегда либо притворялся спящим, либо сидел абсолютно молча, уткнувшись в синий экран. На этот раз я выбрал второй вариант и стал слушать, как из наушников доносится голос какого-то человека, который пел мне про дурачка. Он делал это с такой злостью и агрессией, что мне казалось, будто поёт он про меня и обвиняет не в том, что ему приходится петь про дурачка, а в том, что дурачок я сам. Утро всегда полно сожаления о том, что страница календаря в очередной раз перевернута и что каждое последующее утро страницы календаря будут всё уменьшаться и уменьшаться. От этого утром голова становится в разы тяжелее обычного, бывает, что она тяжела настолько, что не находишь сил поднять ее с подушки. После второй кружки чая и часа созерцания на кровати я надел свои джинсы с обвисшими коленками и ступил ногами на горячий асфальт.
— Лаки Страйк синий и зажигалку.
Погода была нервной. Сквозь
— Дядь Петь, сколько месяцев Вы уже пьёте?
— Если бы ты спросил, сколько лет я пью, быть может, я бы тебе ответил.
Казалось бы, сейчас утро пятницы календарной среды, все варятся в пробках, толпятся в автобусах, а дядя Петя уже стоит за второй бутылкой. Даже петухи начинаю горланить позже, чем дядя Петя встает за прозрачной. У дяди не было ни календаря, ни времени — он был свободным, и каждый день недели был для него одной большой субботой, посему дяде было все равно на то, кто и куда спешит. Он был свободным, и сковывали его лишь грани стакана.
Я пью только по дням на букву «С» — Среда, Суббота и Сегодня.
Когда твоя жизнь становится одной большой субботой и раздумьем над тем, кто есть я, а кто они, то не только ты сам, но и все существование становится тупым и ватным, как ноги во снах, когда ты слепо бежишь от убийцы, пытаясь скрыться от надвигающейся смерти за кирпичной стеной. Только сейчас ты и убийца, и жертва, и сам от себя бежишь, и себя догоняешь. Иногда «стандартному» человеку приходится пережить несколько суббот кряду, тогда он сначала становится очень радостным и веселым от того, что ему больше не придётся вставать от звона ненавистного будильника, но со временем он всё сильнее забывается и запутывается, он уже не видит разницы между календарным днём и настоящим. Чтобы избавить человека от этого, необходимо дать хорошенький подзатыльник, тогда он очнётся и поймёт, кто он и где он, но вот когда твоей субботе нет конца, то никакой подзатыльник не поможет, и тебе становится страшно.
Мы с дядей Петей стояли подле ларька, где он распивал горькую, не закусывая, а я курил и поддакивал ему кивками, облокотившись о стену.
«Стандартный» человек, он же нормальный, он же подвыпивший — один из трёх типов людей, на которые разделял всех Пётр Петрович. Вот эти три типа: трезвенник, подвыпивший и «мы».
О «нас» я говорить не стану, — твердил дядя Петя, — все про нас и так всё знают, а большего и знать не хотят, да и что тут скажешь.
Первый: трезвенник — самый странный и самый редкий вид человека, считается изгоем среди нас, он либо ни разу в своей жизни не пробовал пригубить пару градусов, видимо, боится или жена не разрешает. А-ха-ха! — дядя Петя зашёлся смехом, — либо он бывший наш, правда, таких я еще не встречал, если только на кладбище. В общем, каждый трезвенник очень странный, его походка и отстранённость меня даже пугает. У меня сосед такой, так когда он мимо меня своим быстрым и нервным шагом проходит, пытаясь быть незаметным и избежать возможности поздороваться со мной даже ради напыщенных манер, возникает ощущение, что в своей сумке он несёт не бумаги или документы, а расчленённую маленькую девочку. Ух, страшно мне на таких смотреть. А его походка и пугает и раздражает одновременно, прям всем своим видом показывает, что ему противно даже смотреть в мою сторону! Трезвенник вечером смотрит новости и, поужинав, ложится спать.
Второй: подвыпивший. Подвыпивший — самый распространённый вид, который по-доброму здоровается с нами и приобщается к нам по субботам. Можно даже сказать, что подвыпивший становится выпившим в субботу, а в будние дни ему приходится быть трезвенником, иначе получишь по голове. Чтобы сохранить этот баланс, нужно иметь либо опору и груз за плечами, либо страх не свалиться в пропасть.
Подвыпивший будет весел с бутылочки пива, а от портвейна уже сляжет. Он вечером выпивает одну или две полторашки и ложится навеселе.
Третий: мы. Мы это мы, что тут ещё говорить. Вот я тут, перед тобой, вон, Славка плетётся, мы — гниющие раны на теле общества. Если бы всё общество состояло из трезвенников, то стоило бы им дать хоть малейшую власть в руки, они бы нас прямо на улицах расстреливали. Мы вечером спать не ложимся, мы вечером падаем.
Трезвенник, подвыпивший, мы.
Дядя Петя, по батюшке Петрович, самый старый местный пьяница, седая борода и редкие волосы, пожелтевшие от смога сигарет усы. Он был молчаливым и постоянно пьяным, но стоило заговорить с ним о
— С утра хорошо опрокинуть рюмку другую, особенно когда все с сумками наперевес несутся на работу и удивлённо смотрят на тебя, валяющегося в грязи, — глубоко вздохнув, протянул дядя.
— Не знаю, не знаю. Чего же хорошего в валянии в грязи?
— Ничего ты не понимаешь. Бывает, вот выпьешь так, что совсем себя не чувствуешь и не то что встать, а даже муху со спины прогнать не можешь. Выпьешь, лежишь на сырой траве и смотришь в голубое небо, в такие мгновенья оно становится глубоким и чистым. В трезвом состоянии небо заметить очень сложно, ибо взор всегда нацелен вниз, на пыльную дорогу и чередующиеся вкрапления щебенки. Даже если поднимешь голову вверх и остановишь свой взгляд на небе, то всё равно небо останется небом, а ты — самим собой. В трезвом состоянии мне тошно смотреть вверх, потому что вижу лишь бесконечную стаю мерцающих белых точек, плавающих по моей сетчатке, они так быстро и хаотично носятся, что меня начинает тошнить. Поэтому трезвым я почти не бываю, а если бываю, то никогда не поднимаю голову. Дядя Петя резко сменил воодушевлённое лицо на печальное и стал наполнять рюмку.
— Да, все мы редко придаём значение тому, что так близко. Порой мы не можем взглянуть на родного человека, а уж о небе и говорить не стоит.
— Лучше говорить о небе, чем о людях.
С этими словами Петр Петрович опрокинул рюмку, занюхав рукавом. Он сделал такой тяжёлый глоток, будто с несколькими градусами спиртного он проглотил и всю свою горечь.
Дядя попросил у меня сигарету. Он, пошатнувшись, закурил и продолжил. Он жаловался мне на продавщицу, тётю Веру. Тётя Вера — продавщица в нашем ларьке, куда наведываются постоянные «синие» посетители. Характер у неё своенравный и строгий, вдруг что не так — она тебя своими словесными крюками всего проткнёт, да вышвырнет. Фамилия ей была под стать — Щепина.
— Ну, ты не смотри, что она такая злая. Она хоть стервозная и замысловатая, но это всё только лишь от доброты душевной. Заходят к ней бывалые, а она их пилит до посинения, но бутылку даст, а те уж такого наслушаются, что бутылка эта им противна становится. Иногда даже уходишь от неё ни с чем.
— Вам сегодня тоже, смотрю, досталось.
— Да, но мне это только на пользу. Мне даже радостно слушать её, правду ведь говорит. Некоторым дашь денег, так они тебе готовы хоть смерть подарить, хоть ад, а эта заботится о каждом отбросе.
Мы с Петром Петровичем простояли так довольно долго, я докуривал вторую сигарету, а дядя пропустил рюмку-другую. Он говорил про себя: «Я пьянею телом, а не духом». Посему даже когда он в полном бреду валяется на траве, и его кто-нибудь спрашивает: «Петьк, ты чего тут разлёгся?», — он спокойным голосом осмысленно отвечает: «Понимаешь, я сегодня утром изнемог весь, выпил пива для облегчения, потом, ближе к обеду, у меня всё никак не клеилось с думой, и я взял маленькую водочки — всё сразу на свои места встало, сразу прояснилось. А сейчас я лежу, чтобы отдохнуть, ведь устал я, устал, мать». На такие реплики все обычно отмахивались рукой и думали, мол, чёрт с ним, пускай валяется, дурак старый. Я видел, как ноги Петровича подкашиваются, и поволок его на ближайшую лавочку.
— С раннего утра пьют водку только самые отчаянные, что не хотят видеть взошедшее солнце. Весь день впустую. Сейчас усну где-нибудь, а проснусь только завтра, и обидно мне будет, что ничего и не было. Проснулся, выпил две бутылки, опять уснул. Скучно.
Мы развалились на лавочке, дядя сжал ногами свою прозрачную и сделал задумчивое лицо.
— Когда я захожу в незнакомый магазин, я сразу смотрю в лицо продавщицы, чтобы понять, кто перед тобой. Когда заходишь в знакомый, то сразу смотришь на полочку и думаешь, что же сегодня эдакого испробовать, а в незнакомых всё иначе. По женщине сразу видно, какая она.Если у неё квадратные глаза, угловатое лицо и тоненькие, как берега Суры, губы, то и сама она угловатая. Продаст тебе любую отраву со спокойной душой и глазом не моргнёт, а ты хоть помирай. Если у неё глаза узкие, да нос, как острие ножа, то таких надо бояться ещё больше. Она отдаст тебе в руки не просто со спокойной душой, а с ненавистью и желанием, чтобы ты скорее сдох от этого пойла. Была одна такая, смотрела на меня, словно я Гитлер, а она держит в своих руках ружьё, а я приставлен к стене. Как я стал уходить, припрятав прозрачную, она мне вслед крикнула: «Спасибо за покупку». Будто нож в спину. Я думал, что кину эту бутылку обратно в её колючее лицо. Если у неё широки бедра, да губы сладки, то верь этой женщине. Она покроет тебя бетонным слоем мата, забрызжет слюной, а всё потому, что любит тебя, дурака, жалеет.
— Не понимаю, поэты всегда писали о незнании и глубине женщины, о её странной натуре, которую мужчине никогда не понять, а ты вот так вот сразу можешь все раскусить? Сомнительно, дядя Петя. Да и всё ты говоришь о женщинах, да о женщинах, а как же мужчины?
— Поэтов я никогда не любил, а про мужчин… — на этих словах дядя пришёл в ступор, появилось неловкое молчание, а во мне — чувство недоговорённости, такое противное чувство, когда тебе говорят «а», но не говорят «б».
— Знаешь, — вдруг продолжил дядя, — был один случай, когда я в очередной раз валялся на дороге и не чувствовал ни ног, ни рук, ко мне подъехала машина с синей полоской, вышли мужики в форме и затащили меня в своё такси. Потом я очутился в вытрезвителе, совершенно не помню, как и почему, но ясно помню лица тех мужиков в форме. Сидел я там недолго, через пару дней меня выпустили, и я сразу же побежал в ближайший магазин, благо, в брюках я откопал полтинник и червонец. Открываю дверь, смотрю продавцу в лицо, а там мужик! Представляешь себе? Мужик! Я увидел его и не мог с места сдвинуться, так и стоял в дверях. Стоял и думал, почему и зачем. После закрыл дверь, зажмурился и сплюнул на порог что есть силы, сплюнул и ушёл отравленный этим паршивым продавцом. Лучше нарядиться в бабу, надеть парик и накачать себе грудь, чем носить халат и продавать горькую! Я не понимаю мужиков и не смогу понять. Да и как можно хоть что-то понять по их тупым деревянным рожам? Они все одинаковые. Либо я слишком туп, чтобы прочувствовать глубину мужчины сквозь чёрствую внешность, либо они все тупые. Я склонен думать второе.
— И вы тоже тупой, дядя?
— Я самый тупой.
По своему обыкновению Пётр Петрович говорил долго, делая длинные паузы, как выступающий на сцене робкий студент, который, замявшись, забывает слова. По глазам дяди было видно, что замолкает он только от того, что эти слова задевают его и, быть может, дают всплыть воспоминаниям, которые так больно бьют его. Однажды он, замолчав, заплакал и закрылся руками. Он кричал, захлебываясь слюной: «Хватит о людях!» Это произошло, когда мы с ним так же, как и сейчас, беседовали, только в тот момент я расспрашивал его о жизни, о первой любви и как он вообще жил раньше.
— Когда проходишь мимо трансформатора, там постоянно встречается стая собак, они злостно лают на любого прохожего, который идёт по этой тропе. Все местные очень жалуются на них, хотят отравить или застрелить. Мне так-то всё равно, но они не понимают, что настоящие звери — это и есть они. Если собака абсолютно свободна, у неё нет хозяина и
Природа сама по себе ненавидит человека, ведь это самое тошнотворное существо, причиняющее столько вреда природе. «Они такие злые, потому что не знали человеческой любви, потому что у них нет хозяина» — это самая большая чушь. Когда человек приручает животное, он учит его врать, он делает его человеком, подстраивает под себя. Ручная собака — это уже притворство. Ежели тебя когда-нибудь назовут псиной или собакой, то считай это комплиментом, а если человеком — оскорблением. Ведь никакое животное не способно причинить столько зла и грязи, сколько человек.
Дядя всегда носил с собой стакан и хранил его во внутреннем кармане ветхого пиджака.
Стакан объёмом ровно двести пятьдесят миллилитров, заливается до краёв, чтобы кусочек хлеба поверх рюмки намок; высотой одиннадцать сантиметров, имеет восемнадцать граней и столько же стенок. Сколько бы я раз из него не пил, всё равно получается девять глотков. Тут всё зависит от человека: вот Эдуардыч придёт, так за глотков пять опустошит, а у меня всегда девять. Из такого стакана нужно пить либо водку, либо дешёвое вино, либо коньяк третьего сорта, иное пить нельзя. Полный стакан залпом всегда уходит за девять глотков. И для того чтобы наполнить стакан доверху и поднять его, выдохнув, нужно иметь девять причин. Первой причиной может быть любая глупость и оплошность, она всегда совершенно незначительна и незаметна, но она является маленьким семем, из которого вырастают другие причины. Вторая — разгибание сутулой спины, сжатые в кулаках руки, сильные плечи и гладкая кожа. После второго глотка это проясняется как никогда лучше. Третья причина исходит из следствия, это желание не останавливаться и делать глоток за глотком без конца. Четвёртая: состояние, когда ты не выпускаешь бутылку из рук и никому не даёшь глотнуть. Следующая заключается в метаморфозе всей нашей повседневной жизни и начинается она с взросления. Снобизм, агрессия — то самое, что ведёт нас к пятой причине. Мы становимся озлобленными, сжимаем челюсти что есть силы от малейшего дуновения ветра, от неприкрытого взгляда, хотя сами не стоим и ломаного гроша. Это можно отнести к кастанедовскому «чувству собственной важности». Шестое. Незнание, помутнение. Возникает тогда, когда мы ничего не знаем и пытаемся этому «ничему» научить остальных. Седьмое есть полнейшее падение. Ты нащупываешь ногами в тёмном сарае дыру глубокого погреба и проваливаешься в него вместе с пустым ведром. В падении не понимаешь, что делать, как, что вообще происходит, и просто подчиняешься року судьбы, вытянув руки вперед. Восьмая — не что иное, как Самаэль, торгующая палёным самогоном. К ней приходят мужики, которые последнее вынесли из дома: от утюга до дверной ручки. Демон во плоти и спиртовой раствор вместо огненного языка. Уже больше десяти мужиков с района умерли от её пойла, я лично видел, как они захлёбывались в собственной рвоте. Девятая причина, если ты имеешь остальные восемь, наступает всегда сама ровно и бесповоротно. Это отрешение от всех своих близких и родных, это плевок в лицо своих сыновей.
Если ты ощутил на себе все девять причин, то без зазрения совести можешь поднимать до краёв налитый стакан. Но в большинстве своём я знаю людей, которые имеют лишь одну причину, раздувают её и давятся целой бутылкой из горла. Такие люди глупы.
Мы всё сидели на лавочке, я чувствовал, что мои джинсы прилипли к доскам. Солнце победило суровые тучи и жарило ещё сильнее.
Прошлое П.П. было покрыто занавесом тайны, он никогда ни с кем не разговаривал об этом, если у него кто-нибудь спрашивал невзначай: «А как ты, Петрович, жил-то раньше?» — он отвечал: «Лучше всех!» — и закатывался нездоровым смехом. В этом был весь дядя Петя.
Дядя не говорил о прошедших годах даже в смертельно пьяном состоянии, когда язык расплетался настолько, что он растекался вместе с тобой по всей площади стола. Он молчал, но по его слабому тоскливому взгляду было понятно, что он часто думает о
Вдруг я вспомнил, что хотел поделиться чем-то очень важным и светлым. Сделал жест губами, но ничего не сказал, словно заикнулся.
— Ты что-то сказал? — несколько удивлённо ответил дядя.
— А? Что? Нет, ничего.
Неподалеку от нас, метрах в пятидесяти, паслась лошадь. Она подошла к нам. Настолько близко, что её огромный мокрый нос дышал мне в затылок, я боялся, что может засосать мои волосы. Её шерсть блестела на солнце. Лошадь отошла и стала топтаться на небольшой полянке — размеренно жевала траву. Копошилась среди кустов и репейника — выискивала самые вкусные и сочные травинки.
— Бррр! — Резко отпрянула лошадь.
— Чего это она?
— Сам не знаю.
Я подошел поближе, дабы разглядеть, отчего лошадка так разволновалась, и увидел комочек острых иголок посреди пышной травы.
— Это ёж! — Я радостно воскликнул и быстро подсел обратно к дяде.
— Лошадь боится ежа, слон боится мышь. Забавно, да?
— Да, это смешно.
— А чего ты боишься больше всего?
— Хм, — задумался я,— сложный вопрос. Ну, наверное, (почесываю затылок) больше всего я боюсь темноты, пауков и клоунов. Клоуны вообще очень страшные, правда, я их только по телевизору видел, но мне и этого было достаточно. Ещё очень боюсь родительских собраний в школе, после них мне частенько попадает.
— Вот именно! Прямо в цель! Вот он, самый большой страх — страх неизвестности.
— Чего?
— Да лошадь испугалась ежа от того, что не знает, что это за зверь такой; ты боишься темноты от того, что не знаешь, что там. Все мы боимся только лишь слепой неизвестности. То, что не поддаётся нашему разуму, сразу же вызывает страх, конфликт.
— Я не понимаю.
— Представь себе, что у тебя есть любимая игрушка, которая была тебе очень дорога, но вдруг, в один прекрасный день её и след простыл, нигде нет, понимаешь? Ты ищешь её, переживаешь, заглядываешь за каждый шкаф, за каждый диван, но её нет. Нигде.
— Знаете, дядя Петя, недавно на уроке информатики преподаватель диктовал нам лекцию и одну фразу я запомнил дословно: «Факт получения информации всегда связан с уменьшением разнообразия или неопределённости (энтропии) системы». И мне кажется, что у вас, дядя, эта самая энтропия полностью иссякла.
Дядя промолчал в ответ и налил себе ещё рюмку. Может быть, я его обидел этими словами, не знаю.
Пётр Петрович медленно поднялся и поплёлся в сторону своего дома, махнув мне рукой, я понял, что он зовёт меня с собой. Я шёл за ним. Зайдя в дом, я скромно встал в самом уголочке, а дядя что-то искал в комнате.
— Проходи на кухню, чего стоишь, — крикнул он мне из дальней комнаты.
Захожу, осматриваюсь: грязные стены с подтёками, отклеившиеся обои, но, что несколько странно, бардака не было, всё в доме расставлено предельно аккуратно. П.П. протягивает мне старый мятый конверт. Письмо, написанное тонкой женской рукой.
Стоял и читал его, а дядя сидел за столом, поставив руки под голову. Читал письмо и украдкой смотрел на Петровича. Он сидел и молчал. В страшной тишине громко рычал холодильник. Свернул конверт и положил обратно на стол.
«Так той пропавшей игрушкой была его жена?» — Подумал я про себя.
— Вот и всё, — сказал дядя, не показывая лица, — видишь вон тот ящик?
— Да.
— Там хранятся все письма, которые я писал в никуда.
— Можно? — Сказал я, протягивая руку в сторону пыльного ящика.
— Конечно.
Я открыл крышку (похожий ящик стоял у моей бабушки в деревне, куда она складывала старые вещицы) и сверху всякого хлама и тряпья увидел потрёпанные пожелтевшие письма и старый рваный потрет, нарисованный карандашом.
— Какой-то молодой совсем. Это вы? — Я аккуратно держу в руке сморщенный лист, местами склеенный скотчем, на котором изображено улыбающееся лицо.
— Да, она любила рисовать. И пара писем ещё. Это малая часть того, что я писал ей. Большинство порвал сразу.
Те мгновения были полны оцепенения, я не знал, что говорить, мне было неловко смотреть ему в глаза, а дядя говорить и не думал, мы с ним как-то неловко распрощались, обменявшись парочкой слов, и я вскоре пошёл по своим делам с запутанным клубком мыслей.
Путь от остановки до дома был простым, я шёл, машинально передвигая ногами. Я дошёл до ларька и увидел бабушку, лежащую в траве, у неё были раскинуты руки, закрыты глаза. По спине пробежали мурашки — я хотел подойти к ней и пощупать пульс, но
Каждый день я ходил на работу, а дома лежал на диване с той же мыслью, что и главный герой из любимого фильма: «Сколько ещё подобных дней я собираюсь прожить?»
Половину дня я проводил за станком и около девяти часов вечера возвращался с работы. Каждый рабочий вечер меня не покидало ощущение, что самое противное чувство — это запах вечерней маршрутки. Однажды по дороге домой я увидел, как лежащего Петровича поднимают с земли люди в белых халатах, затаскивают на носилки и увозят на карете с красным крестом. Вокруг собралась толпа зевак, в основном состоявшая из собутыльников. У всех были поникшие лица, некоторые даже проронили скупую слезу, в этой толпе стояла и тётя Вера.
— Что случилось?
— Он, как обычно, лежал возле забора, я спросила его: «Чего ты разлёгся опять?», — а он ничего не ответил.
Вскоре я узнал, что Пётр Петрович скончался в больнице. Врачи сообщили, что у него остановилось сердце. Вечно ленивый и мудрый кот умер кошачьей смертью. Редко появляясь на его могиле, я закуривал сигарету и оставлял её тлеть на мраморной плите.
