Немецкий историк Йохен Хелльбек о работе над книгой «Сталинградская битва: cвидетельства участников и очевидцев»
Я немец и, разумеется, был воспитан под влиянием культурной памяти о Второй мировой войне, преобладающей в Германии. Когда немцы думают о Второй мировой, чуть ли не первое, что приходит им в голову, ― это Сталинградская битва. Сталинград ассоциируется с драмой всей немецкой армии, которую Гитлер принес в жертву во имя своих мегаломанских целей. В воображении возникает картина, как в условиях голода, холода и болезней сражаются попавшие в окружение немцы и как впоследствии сто тысяч из них становятся пленниками и заключенными. В Германии многие хорошо знают цифру: всего лишь шесть тысяч немцев, участвовавших в Сталинградской битве, вернулись из советских лагерей. Однако мало кто знает, сколько людей с советской стороны ― военных и гражданских ― погибли от немецких пуль и снарядов, после того как в Сталинграде был введен оккупационный режим. И почти ничего немцы не знают о том, какими были мысли и чувства их исторических врагов с Востока. В немецких представлениях советский противник не только монструозен, но и безлик ― это окрашенная в землистый цвет масса солдат, штурмующих немецкие позиции с криками «урэ-э-э» («Uräää»), так что даже их боевой клич звучит по-звериному искаженно.

Когда я начинал изучать Сталинградскую битву, у меня было желание написать такую работу, которая показала бы разные стороны сражения в процессе их взаимодействия, а солдат обеих армий ― людьми со своими мыслями и чувствами, пропускающими сквозь себя мобилизационные идеологии их военных режимов. Первоначально проекту не хватало сбалансированной базы источников ― у меня было множество персональных свидетельств с немецкой стороны, а с советской ― наоборот. В Красной армии запрещалось ведение личных дневников, а советские цензоры следили, чтобы письма нельзя было использовать в целях разведки и пропаганды, попади они в руки немцев ― так что они ограничивались предписанной формулой «я жив и здоров». В результате лишь немногие источники дают нам более подробные сведения о том, что люди думали и говорили в военное время.
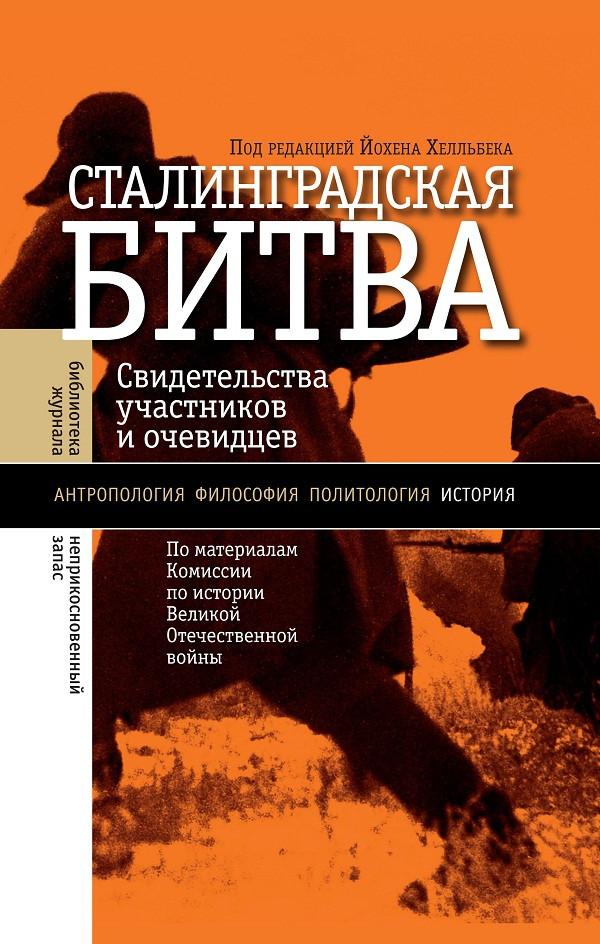
Но когда я столкнулся с огромным и почти забытым собранием Комиссии по истории Великой Отечественной войны, я решил посвятить ему весь проект и на время отложить идею сравнительного советско-немецкого исследования. Члены комиссии, которую в конце 1941 года основал в Москве профессор Исаак Израилевич Минц, прибыли в Сталинград в последние недели сражения, стремясь опросить солдат Красной армии и очевидцев событий и сохранить их свидетельства для будущих поколений. В течение следующих недель и месяцев они провели многочисленные интервью и застенографировали разговоры с 215 очевидцами Сталинградской битвы: генералами, командирами, простыми красноармейцами и санитарками, с комиссарами и коммунистическими агитаторами, а также с рядом гражданских лиц — инженерами, рабочими и одной работницей кухни — которые в разбомбленном городе выполняли свою работу или боролись за выживание.
Эти беседы в большей степени, чем какой бы то ни было другой известный источник, позволяют читателю приблизиться к событиям Сталинградской битвы и представляют ему более объемную и рельефную картину поступков, мыслей и чувств советских людей — участников войны. Люди рассказывают о своем происхождении, о том, как попали на войну, о своих солдатских проблемах. Открыто, по свежим следам боевых действий они описывают как моменты ужаса, так и возвышенные эпизоды атак; они обсуждают сильные и слабые стороны ведения войны, характерные для Красной армии, говорят о полученных наградах и рассказывают о поступках «героев» и «трусов», служащих в их воинской части. Многие респонденты делились своими впечатлениями и размышлениями о враге. Беседы эти уникальны еще и потому, что историки проинтервьюировали в Сталинграде людей, многие из которых сражались бок о бок, и опрошенные солдаты в своих рассказах часто упоминали товарищей. Дополняя друг друга, эти интервью в совокупности демонстрируют такое единство места, времени и действия, которое знакомо нам только по пьесам или романам.
Как и многих других свидетелей великой битвы у Волги, историков группы И.И. Минца волновал вопрос, каким образом Красной армии удалось одолеть противника, который — по всеобщему мнению — превосходил ее по уровню тактических навыков, дисциплины и военной подготовки. Именно с целью выяснить, какие средства позволили защитникам Сталинграда остановить непобедимую Германию, поставившую на колени всю Европу, историки говорили с защитниками города. Эта проблема занимает исследователей и по сей день. Пожалуй, больше всего дискуссий вызывает вопрос мотивации советских солдат в Сталинградской битве. Действовали ли они по своей собственной воле или их заставляли сражаться под дулом пулеметов? Черпали ли они силы в традиционных русских ценностях или вдохновлялись исключительно советскими идеологемами? Какую роль сыграла любовь к Родине, ненависть к захватчикам и преданность Сталину в их готовности сражаться и умирать?
Если иметь в виду эти вопросы, то больше всего в процессе изучения сталинградских интервью меня поразила высокая степень влияния активистов коммунистической партии и то, как их понятия обуславливали язык, на котором говорило военное командование, равно как и рядовые солдаты. Многие ученые — на Западе, да и в постсоветской России — полагают, что компартия держалась в стороне от военной мобилизации и не уделяла особого внимания работе с армией. Но в действительности за годы Великой Отечественной состав ВКП (б) радикально увеличился, так что к исходу войны почти каждый второй солдат состоял в партии или Комсомоле. Изменились и критерии приема в партию. Если прежде решающую роль играли знание теории и пролетарское происхождение, то теперь достойным вступления в партию считался всякий, кто показал себя хорошим солдатом и мог доказать, что уничтожил много немцев. Партия сумела в течение войны углубить свое влияние в армии, так как ее политическая работа приспосабливалась к обстоятельствам солдатской жизни, становилась реалистичнее. Стремление к возмездию за причиненное врагом горе и воля к победе образовывали общий знаменатель. Посредством неустанной политической учебы и опеки партийный аппарат добился того, что представления красноармейцев о мире были приведены в стройную и замкнутую идеологическую систему.
Как свидетельствуют интервью, а с ними и недавно рассекреченные источники из российских архивов, многие советские офицеры и солдаты были казнены за «панику», «трусость» или измену. Командиры часто применяли угрозы расстрелом, чтобы подчеркнуть неукоснительность выполнения их приказов. Однако уровень насильственных действий, описанных в документах, не соответствует утверждениям многих ученых и кадрам из популярных кинокартин, таких как «Враг у ворот», показывающих, как отряды НКВД в тылу выкашивают из пулеметов собственных солдат.
Насколько достоверны документы исторической комиссии? Не создавались ли они в пропагандистских целях? Несомненно, это так. И все же менее достоверными они от этого не становятся. Как советские граждане, историки, разумеется, считали своим долгом трудиться ради победы над гитлеровской Германией, и поэтому свой проект они рассматривали в огромной мере и как вклад в воспитание и мобилизацию советского общества. Подобно деятелям советского и европейского авангарда 1920-х годов, историки действовали «оперативно» — своими вопросами, своей лексикой они активно вмешивались в мир респондентов, организуя его. В
Йохен Хелльбек — историк, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), ответственный редактор книги «Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев», вышедшей на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение».
