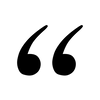Марио Варгас Льоса: Запрещать запрещено
Перуанский писатель и публицист Марио Варгас Льоса известен как непримиримый критик современного общества и современной культуры. На этот раз мишенью живого классика мировой литературы становятся гуманитарные науки, пострадавшие, по его мнению, от революции мая 1968 года.
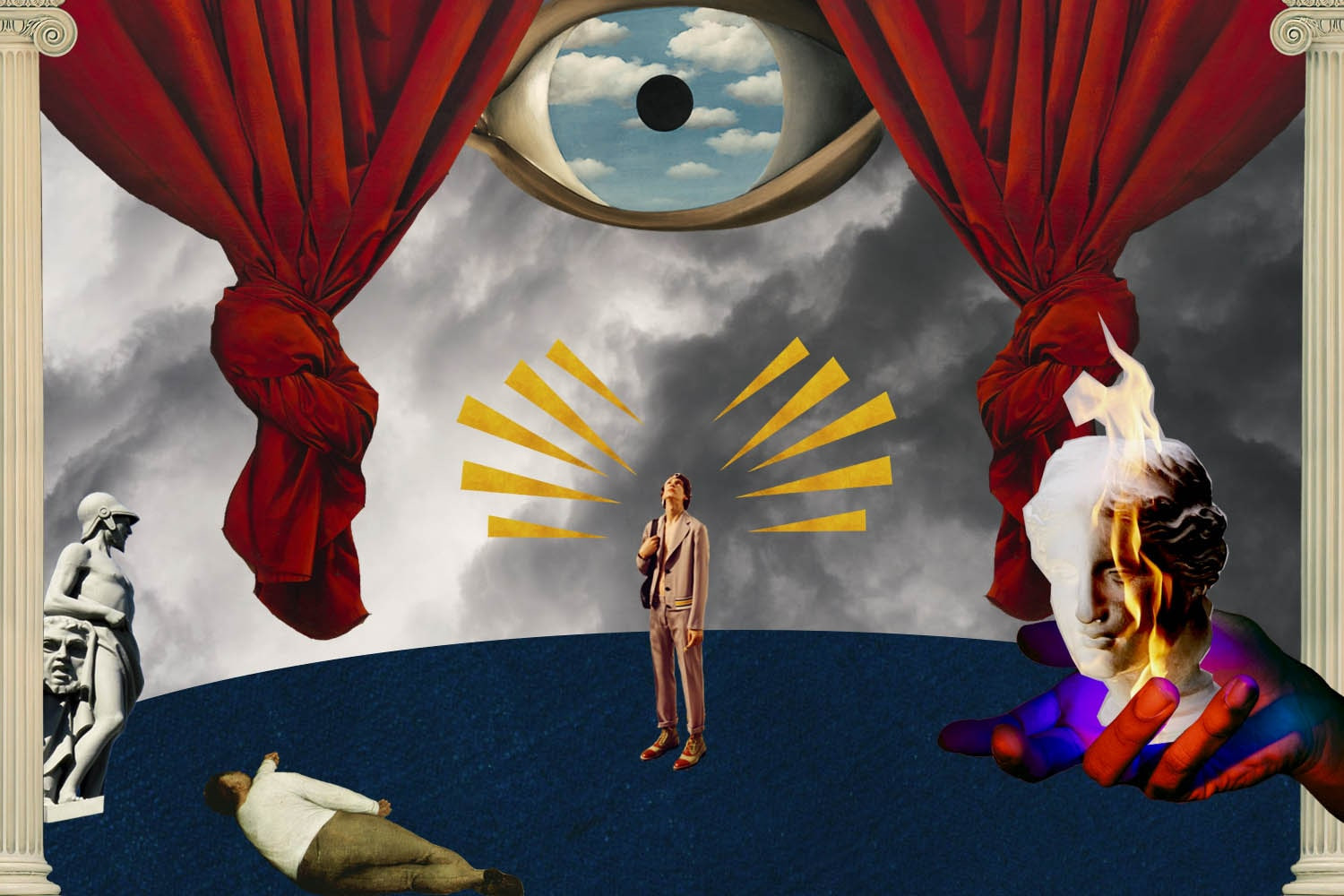
Однажды, живя в Париже, я посмотрел документальный фильм, который произвел на меня неизгладимое впечатление и представляется сегодня чрезвычайно актуальным в контексте дебатов о самой значимой культурной проблеме нашего времени: упадке образования.
В фильме рассказывалось о проблемной школе на окраине Парижа, одном из тех мест, где бедные французские семьи живут рядом с иммигрантами из Магриба, Тропической Африки и Латинской Америки. В этой муниципальной средней школе, где учились представители разных рас, традиций и религий, насилие — нападения на учителей, изнасилования в туалетах и коридорах, разборки между бандами, поножовщина и даже перестрелки — было частью повседневной жизни. Не знаю, были ли убитые, но пострадавших было много, а когда полиция обыскала школу, то нашла оружие, наркотики и алкоголь.
Намерением режиссера было не посеять панику, а вселить надежду; показать, что худшее уже позади и что благодаря совместным усилиям властей, учителей и родителей, ситуация меняется в лучшую сторону. Например, директор с нескрываемым удовлетворением отмечал, что благодаря установленному недавно металлоискателю, через который все ученики должны были проходить перед тем, как войти в школу, удалось конфисковать кастеты, ножи и прочее холодное оружие. Как следствие, число случаев кровопролития существенно сократилось. Руководство школы также внедрило правило, согласно которому учителям и студентам запрещено было ходить куда-либо по одному, даже в туалет. Кроме того, были наняты два психолога для работы с закоренелыми нарушителями порядка, которые почти всегда происходят из неполных семей, распавшихся
Наибольшее впечатление на меня произвело интервью с одной из учительниц. «Сейчас стало лучше, но всё равно нужно смотреть в оба», — сказала она и добавила, что условилась встречаться с другими учителями возле ближайшей станции метро и идти на работу вместе, чтобы снизить риск подвергнуться нападению.
Эта учительница и её коллеги, которые каждый день проходили через врата ада, чтобы попасть на работу, смирились с положением вещей, научились выживать и, кажется, даже не представляли себе, что жизнь учителя может не быть наполнена страхом.
Я в то время как раз закончил читать эссе Мишеля Фуко, в котором французский философ со свойственной ему категоричностью утверждал, что наряду с сексуальными табу, психиатрией, религией, законом и языком, образование в западном мире всегда служило цели подчинить граждан и обеспечить правящим классам сохранение их привилегий. Что ж, по крайней мере в сфере образования, начиная с 1968 года, подавлению естественного стремления молодёжи к свободе был положен конец. Но, судя по этому фильму, который вполне мог быть снят во множестве других мест во Франции и всей Европе, падение престижа учительской профессии — а также авторитета в любой форме — не привело к освобождению молодёжи, а превратило школы в лучшем случае в очаги хаоса, а в худшем — в маленькие диктатуры под предводительством несовершеннолетних преступников.
Майские события 1968 года не покончили с «авторитетом», ведь это понятие к тому времени уже давно переживало упадок во всех сферах, от политики до культуры, и особенно в области образования.
Однако эта революция, совершённая детьми богачей, одним из лозунгов которых была фраза «запрещать запрещено», стала предвестником конца для всех форм авторитета. Она также способствовала распространению идеи, что к любому авторитету необходимо относиться с подозрением, и что единственный верный для либертарианца поступок — это отрицать авторитет и восставать против него. Политическую власть никак не затронула эта символическая дерзость молодых бунтарей, которые, сами того не осознавая, принесли с собой на баррикады идеи таких мыслителей как Фуко.
Не стоит забывать, что на первых выборах после майских событий 1968 года убедительную победу одержали правые — голлисты.
А вот авторитет, понимаемый как «престиж и репутация, основанные на компетентности в определённой области», был похоронен навсегда. С тех пор, в Европе и в большей части остального мира почти не осталось политических и культурных фигур, имеющих моральное и интеллектуальное влияние, классический «авторитет», олицетворением которого на повседневном уровне были учителя. Ни в какой другой сфере последствия этого процесса не были настолько катастрофическими, как в образовании. Порицаемые как представители репрессивной власти, ущемляющей свободу и человеческое достоинство, учителя потеряли не только доверие и уважение своих учеников (без чего стало невозможным должным образом выполнять свою работу: передавать не только знания, а и ценности), но и уважение родителей и философов, которые вслед за автором «Дисциплины и наказания» поспешили объявить учителей — наравне с тюремными надзирателями и психиатрами — орудиями истеблишмента, стремящегося подавить в детях и подростках здоровый дух бунтарства.
Многие учителя, руководившиеся только лучшими намерениями, уверовали в эту демонизацию самих себя и лишь усугубили ситуацию, подписавшись под самыми нелепыми аспектами идеологии майских событий 1968 года — например, признав неприемлемым заваливать плохих студентов, заставлять их повторно пройти курс или даже просто ставить оценки на том основании, что проведение различий между студентами способствует индивидуализму, неравенству и расизму. Одним из парадоксальных следствий триумфа идеологии майских событий 1968 года стало усугубление классового разделения в системе образования.
Цивилизация постмодерна привела к политическому и нравственному упадку, и это частично объясняет, почему «чудовища», с которыми, казалось, было навсегда покончено после Второй мировой войны — национализм и расизм — вновь возникли на Западе, угрожая его ценностям и демократическим принципам.
Общедоступное образование было одним из главных достижений демократической и светской Французской республики. Французские школы и колледжи, соответствовавшие высшим стандартам, предоставляли студентам равные возможности, которые помогали исправить классовое неравенство и помочь детям из неблагополучных семей развиваться, достигать профессиональных успехов и занимать посты в органах власти. Государственные школы были мощным инструментом социальной мобильности.
Упадок государственного образования во Франции и остальном мире обеспечил частному образованию, которое по экономическим причинам доступно лишь немногим и которое меньше пострадало от так называемой либертарианской революции, ведущую роль в подготовке будущих политических и культурных деятелей.
Думая, что они способствовали построению действительно свободного общества, лишённого репрессий, отчуждения и авторитаризма, либертарианские философы вроде Мишеля Фуко и его ничего не подозревавшие последователи положили начало перевороту в образовании, который завершился тем, что бедные остались бедными, богатые остались богатыми, а прежние властные кланы остались при власти.
Парадоксальный случай Мишеля Фуко упоминается тут неслучайно. Презрение к западной культуре — которая при всех своих недостатках всё же ответственна за расцвет свободы, демократии и прав человека — привело Фуко к убеждению, что нравственной и политической свободы легче достичь метанием камней в полицейских или хождением по
Пример Фуко симптоматичен: он был одним из самых блестящих мыслителей своего поколения, но наряду с серьёзностью, с которой он исследовал самые разные области — историю, психиатрию, искусство, социологию, сексуальность и философию — у него всегда была иконоборческая и эпатажная сторона (в своём первом эссе он доказывал, что «человека не существует»),
Многие мыслители нашего времени потеряли авторитет потому, что были несерьёзны: они играли с идеями и теориями, как цирковые жонглеры с палицами; они вызывали любопытство и даже восторг, но не убеждали.
В области культуры под их влиянием произошла странная инверсия ценностей: теория (то есть интерпретация) заменила произведение искусства и стала самоцелью. Критики стали более важны, чем художники, и превратились в подлинных творцов. Теория стала обоснованием существования произведения искусства, которое создавалось для того, чтобы быть истолкованным критиком. Парадоксальным образом, это обожествление критиков привело к снижению популярности культурной критики среди широкой публики (даже образованной) и поверхностности современной культуры. Язык, которым эти авторы излагали свои теории, был настолько эзотерическим, претенциозным, лишённым глубины и оригинальности, что даже Фуко, который и сам был далеко не безгрешен в этом отношении, заговорил о «террористическом обскурантизме».
Но искажения смысла в некоторых постмодернистских теориях — в особенности деконструктивизме — были всё же более существенными, чем искажения формы. Согласно тезису, разделяемому большинством постмодернистских философов (в первую очередь, Жаком Деррида), утверждение будто язык выражает реальность ложно. По словам этих мыслителей, слова означают лишь сами себя; они предоставляют «версии», или маски, реальности; соответственно, литература описывает не мир, а только саму себя, и представляет собой последовательность образов, документирующих различные прочтения реальности, выраженные неизбежно субъективным и вводящим в заблуждение языком. В конечном счёте, не существует ничего помимо языка; именно он порождает мир, который мы считаем реальным, но который на самом деле не более чем мираж из слов. Деконструктивисты подрывают нашу уверенность во всём — и, в первую очередь, в существовании логических, этических, культурных и политических истин.
Отсюда только один шаг до утверждения, сделанного в 1977 году Роланом Бартом в его инаугурационной лекции по случаю назначения председателем семиологии в Коллеж де Франс: «Язык — это фашист».
Согласно деконструктивистам, реализм невозможен по той простой причине, что реальности не существует; есть лишь клубок дискурсов, которые вместо того, чтобы описывать реальность, маскируют её или превращают в дымку из неуловимых и неосязаемых противоречий и версий, имеющих только относительную ценность. Но что же тогда существует? Дискурсы, посредники реальности, доступной нам только через метафоры и риторику; а главный источник дискурсов — литература. По словам Фуко, власть использует дискурсы, чтобы контролировать народ и душить в зародыше любые попытки подорвать привилегии элиты, чьи интересы власть представляет и обслуживает. Этот тезис возможно самый спорный из всех, ведь живая культурная традиция Запада никогда не была конформистской. Напротив, она представляла собой неутомимое переосмысление. Благодаря таким людям как Сократ и Маркс, Платон и Фрейд, Шекспир, Кант, Достоевский, Джойс и Ницше, на протяжении веков создавались художественные миры и системы идей, противопоставлявшие себя установленному порядку.
Если бы нам был доступен лишь дискурс, навязанный властью, не было бы ни увеличения политической свободы, ни расцвета художественного таланта.
Разумеется, была и критическая реакция на заблуждения и искажения представителей постмодернизма. Например, постмодернистских философов, использовавших научный язык, чтобы придать вес своим теориям, вывели на чистую воду два настоящих учёных, Алан Сокал и Жан Брикмон, опубликовав в 1998 году книгу «Интеллектуальные уловки», разоблачившую безответственное, некорректное, а зачастую и цинично мошенническое использование науки в трудах таких известных мыслителей, как Жак Лакан, Юлия Кристева, Люс Иригаре, Бруно Латур, Жан Бодрийяр, Жиль Делёз, Феликс Гваттари и Поль Вирильо. Не стоит забывать, что и значительно ранее, в 1957 году, в своей первой книге «При чём тут философия?» Жан-Франсуа Ревель неистово изобличал самых влиятельных мыслителей того времени, использовавших невразумительный и псевдонаучный язык с целью скрыть незначительность своих теорий и собственное невежество.
Ещё одним неутомимым критиком теорий модного в то время постмодернизма была Гертруда Химмелфарб, которая в сборнике эссе под названием «Взгляд в пропасть» разоблачила постмодернистские теории, в особенности структурализм Мишеля Фуко и деконструктивизм Жака Деррида и Поля де Мана, указав на их бессодержательность по сравнению с традиционными школами литературной и исторической критики.
Её труд также отдаёт дань уважения Лайонелу Триллингу, автору «Либерального воображения» и многих других эссе о культуре, которые имели большое влияние в интеллектуальных и академических кругах Соединённых Штатов и Европы в послевоенный период, но которые сегодня мало кто помнит и почти никто не читает. В сфере экономики Триллинг не придерживался либеральных взглядов (скорее социал-демократических), но он был либералом в политике (неутомимо отстаивая толерантность и закон) и прежде всего в области культуры (веря в идеи как двигатель прогресса и в то, что великие литературные произведения обогащают жизнь, делают людей лучше и служат основой цивилизации).
В глазах постмодернистов подобные взгляды были настолько наивными и нелепыми, что никто даже не утруждался их опровергать.
Несмотря на то, что поколение Лайонела Триллинга и поколение Деррида и Фуко разделяет всего несколько лет, между ними — непреодолимая пропасть.
Одно поколение было убеждено, что история человечества представляет собой поступательное развитие, что прогресс возможен и что литература закладывает основы нравственности; другое релятивизировало понятия истины и ценности и превратило их в фикции, заявив, что все культуры равноценны, отделив литературу от реальности и заточив её в душный мир текстов, отсылающих к другим текстам и никак не связанных с жизнью.
Я не разделяю пренебрежительное отношение Гертруды Химмелфарб к Фуко. Несмотря на все софизмы и преувеличения, которые можно поставить ему в упрёк, — например, его теории о присущим языку «властным структурам», которые насаждают слова и идеи, играющие на руку господствующим классам, — Фуко поспособствовал тому, что определённые маргинальные и эксцентричные явления получили широкое признание в области культуры. А вот с критикой хаоса в гуманитарных науках, к которому привела деконструкция, я полностью согласен.
Из–за деконструктивистов сегодня трудно воспринимать гуманитарные науки всерьёз, так как они стали тесно ассоциироваться с упадком интеллекта.
Каждый раз, корпя над обскурантистскими литературными или философскими опусами Жака Деррида, я чувствовал, что трачу время впустую. И дело не в том, что я считаю, будто каждое критическое эссе должно быть полезным, вовсе нет — ему достаточно быть просто занимательным; но если литература — это не более чем совокупность изолированных текстов, никак не связанных с действительностью, прогрессом общества и поступками отдельных людей, какой тогда смысл их деконструировать? Зачем все эти утомительные упражнения в эрудиции и литературной археологии, все эти лингвистические генеалогии и сопоставления текстов? Исходить из неспособности литературы влиять на жизнь (или наоборот) и выражать истины о человеческой ситуации, а затем тратить столько времени на скрупулёзный анализ артефактов, состоящих из бесполезных слов — это как минимум непоследовательно. Когда средневековые теологи спорили о том, какого пола ангелы, они не тратили время впустую. Для них этот вопрос был связан с такими важными вещами, как спасение или вечное проклятие. Но анализировать лингвистическую структуру, которая заведомо объявляется бессмыслицей, многословным и нарциссическим текстом ни о чём, не имеющим никаких нравственных последствий, означает превращать литературную критику в бесполезное солипсическое занятие.
Неудивительно, что из–за влияния деконструкции литературные факультеты многих западных университетов (особенно в США) лишились студентов и заполнились шарлатанами, а литературную критику — которую теперь можно найти в книжных магазинах разве что с увеличительным стеклом, где-то между пособиями по каратэ или дзюдо и китайскими гороскопами — читает всё меньше и меньше неспециалистов.
Для современников Лайонела Триллинга, литературная критика была связана с основополагающими вопросами человеческого существования. Они видели в литературе отражение идей, мифов, верований и грёз, движущих обществом, и глубинных побуждений, диктующих поступки человека. Вера того поколения в силу литературы была настолько сильна, что в одном из своих эссе из сборника «За рамками культуры» Лайонел Триллинг задавался вопросом, не идёт ли сам факт преподавания литературы вразрез с её сущностью. Академический подход придаёт абстрактный и поверхностный оттенок трагичности и человечности, содержащимся в выдающихся творениях воображения, лишая их силы менять жизнь читателя.
Профессор Химмелфарб с грустью прослеживает перемену, произошедшую в отношении к литературе — от обеспокоенности Лайонела Триллинга тем, что литература теряет свою силу, становясь предметом изучения, до легкомысленности, с которой Поль де Ман двадцать лет спустя использовал метод литературной критики, чтобы деконструировать Холокост — занятие, мало чем отличающееся от попыток историков-ревизионистов доказать, что истребление шести миллионов евреев нацистами — это фикция.
Я не раз перечитывал эссе Лайонела Триллинга о преподавании литературы — особенно часто, когда преподавал сам. Он абсолютно прав, что ошибочно сводить произведения искусства к педагогическому толкованию (и ещё хуже — составлять на его основе тесты, которые, вдобавок, необходимо затем оценивать), которое неизбежно схематично и безлично.
Литературные произведения рождаются из глубоких переживаний, из настоящих человеческих трагедий, с которыми надлежит знакомиться не в лекционном зале, а в уединении, и воздействие которых измеряется откликом, производимым ими в душе читателя.
Я не помню, чтобы кто-либо из моих учителей смог пробудить во мне понимание, что хорошая книга раскрывает перед нами тайные глубины человеческой жизни. Но некоторым литературным критикам это удалось. В первую очередь на ум приходит имя Эдмунда Уилсона, чьё невероятное эссе «На станцию Финляндия», посвящённое развитию социалистических идей и литературы, попало мне в руки в студенческие годы.
Эдмунд Уилсон не сталкивался с дилеммой Лайонела Триллинга относительно преподавания литературы, поскольку он сам никогда не стремился читать лекции. Его влияние не ограничивалось академическими кругами. Его статьи и обзоры публиковались в газетах и журналах, а некоторые из его книг были основаны на статьях из «Нью-Йоркера». Но то, что он писал для широкого круга читателей, вовсе не означает, что он был недостаточно смел в своих интеллектуальных изысканиях; он просто писал ясно и с чувством ответственности.
Литература должна быть достоянием каждого, тщательно оберегаемым источником, к которому мы всегда можем обратиться в поисках определённости, когда мы погружаемся в хаос, в поисках утешения, когда мы падаем духом, или в поисках зёрен сомнения, когда окружающая действительность кажется слишком простой и предсказуемой.
Если же мы уверуем в то, что литература существует лишь для того, чтобы подпитывать соответствующую дисциплину, а стихотворения, романы и пьесы пишутся, чтобы внести изменения в язык, то позволим критикам и дальше безнаказанно играться со смыслом и формой.
©Mario Vargas Llosa