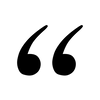«Обовсём» Жиля Делёза
Эксцентричный изобретатель концептов и соавтор вместе с Феликсом Гваттари философского бестселлера «Анти-Эдип», который заменил эпоху психоанализа «шизоанализом», Жиль Делёз, — видная контркультурная фигура второй половины ХХ века. Несмотря на то, что он решил посвятить себя университетской карьере, круг его интересов не ограничивался одной лишь философией. Классической академической философии он противопоставлял свою «поп-философию» и регулярно совершал экскурсы в такие области как литература, музыка и кино. Его небезразличие к современным политическим событиям — в первую очередь, поддержка студенческих бунтов во Франции в мае 1968 года — сделали его любимцем молодёжи, а причудливый внешний вид превратил его в одного из самых узнаваемых персонажей поколения.

О выпивке:
Выпивка — это стремление к последнему стакану. Таким образом, алкоголик — это тот, кто раз за разом выпивает свой последний стакан, к которому целенаправленно идёт каждый день с самого момента своего пробуждения. Его интересует не первый, второй или третий, а именно последний стакан. Он оценивает, сколько может выпить, чтобы не свалиться с ног (а это количество существенно разнится для разных людей), и все выпитые им стаканы становятся ступенями на пути к последнему. Что значит «последний»? Это значит, что алкоголик не может больше выпить в этот конкретный день. Но на следующий день именно этот «последний» стакан позволяет ему вновь начать пить. Когда он говорит «последний», это на самом деле значит «предпоследний». Ведь если он выпьет на один стакан больше своего предела, всё пропало. Он попадёт в больницу и вынужден будет изменить свой образ жизни. Алкоголики всегда говорят: «Давайте по последней»! Но за последней всегда следует ещё одна последняя.
О культуре:
Я не считаю себя интеллектуалом или даже культурным человеком по той простой причине, что когда я вижу какого-нибудь «культурного» человека, я прихожу в ужас. Такой человек обладает поистине пугающими познаниями. Я повидал много интеллектуалов, со многими знаком, общался с ними. Они знают всё, что только можно знать: историю Италии, искусство Ренессанса, географию Северного полюса… они могут говорить о чём угодно. Это отвратительно. Когда я говорю, что я не культурный человек и не интеллектуал, то имею в виду, что у меня нет знаний «про запас». После моей смерти нечего будет публиковать. Я ничего не коплю. Всё, что я изучаю, я изучаю с определённой целью. А после того, как цель достигнута, через 5—10 лет я уже ничего не помню. Доходит до смешного: когда я хочу вернуться к той или иной теме, я должен начинать с нуля.
Культура тесно связана с речью, а речь — довольно грязное дело, потому что говорить значит очаровывать. Я всегда терпеть не мог лекции и семинары. Когда я был молодым, то участвовал в них, и с тех пор я их не выношу. Более того, я перестал путешествовать. Путешествия интеллектуалов — это цирк. Они не путешествуют, а только меняют места для разговоров: говорят в одном месте, потом едут в другое и говорят там. Они не могут остановиться. Говорят, говорят, говорят… Я этого не переношу. Культура тесно связана с устной речью, и в этом смысле я ненавижу культуру. Терпеть её не могу.
О еде:
Приём пищи— самое скучное занятие в мире. Когда я ем вместе с
О туберкулезе:
Я долгое время чувствовал, что болен чем-то, но, как и многие люди, не хотел знать чем. Я просто заключил, что скорее всего это рак, так что спешить некуда. Я не знал, что это был туберкулёз до тех пор, пока не начал харкать кровью. Начнись болезнь на несколько лет раньше, до появления антибиотиков, я мог бы и не выжить. Но в 1968 году серьёзной угрозы жизни уже не было. К тому же, туберкулёз — это болезнь, не сопряжённая со страданиями. Болезнь без боли — большая привилегия.
О старости:
Старость — восхитительный возраст, если есть достаточно денег и немного здоровья. Во-первых, сам факт её достижения уже чего-то да стоит. В конце концов, в мире, в котором есть войны, коварные вирусы и микробы, дожить до старости не
О преподавании:
В первые годы после Освобождения, когда я занимался преподаванием, школы были совершенно другими. В то время к преподавателю философии относились с большим снисхождением и всё ему прощали — он был кем-то вроде сумасшедшего, деревенского дурачка. Как следствие, он, как правило, мог делать всё, что захочет. Я, например, учил своих студентов с помощью музыкальной пилы, и это считалось вполне нормальным. В сегодняшних школах, уверен, подобное невозможно.
О складке:
Когда-то я написал книгу о великом философе Лейбнице, в которой я развивал понятие второстепенное для него, но важное для меня — понятие «складки». Я, как всегда, получил множество писем — замечательных, ярких писем, которые меня очень тронули… Но два письма были совершенно особенными, они меня поразили. Первое письмо было от французской ассоциации производителей складных картонных папок. Они писали, что полностью со мной солидарны, так как мы с ними занимаемся одним делом. Ну ладно, думаю, может быть и так… Затем я получил второе письмо — от серфингистов. На первый взгляд ничего общего с производителями папок. Но серфингисты также утверждали, что «складка» — это о них, так как они имеют дело со складками волн. То, что говорят эти люди, замечательно. Они действительно размышляют о том, чем занимаются. Что может быть прекраснее?
О разговорах:
Принято считать, что люди недостаточно разговаривают друг с другом. Но в действительности они только то и делают, что говорят. Самые несчастные пары — те, в которых жена не может жить без того, чтобы муж постоянно говорил ей: «Ты в порядке? Поговори со мной…»
О миссии философии:
Важная роль философии состоит в том, что она препятствует разрастанию глупости до катастрофических масштабов, которых та бы несомненно достигла, если бы философии не существовало. И не имеет значения, читают ли люди книги по философскии или нет. Само существование философии удерживает людей от отупения, которое без неё неизбежно бы наступило.
Об истории философии:
История философии всегда имела репрессивное влияние: как можно мыслить, не читав Платона, Декарта, Канта, Хайдеггера и книгу такого-то автора о них? Это масштабный проект по запугиванию, производящий профессиональных мыслителей и одновременно заставляющий всех непосвящённых всё больше смиряться с этим процессом специализации, который им ненавистен. Образ мыслей, называемый философией, сложился исторически и теперь мешает людям мыслить. Разумеется, репрессивную функцию могут выполнять и другие дисциплины. Можно даже сказать, что история философии потерпела крах, и сегодня государство более не нуждается в её поддержке. Однако на её месте возникли другие. Эпистемология, марксизм и психоанализ — это новые инструменты власти, в которых Маркс, Фрейд и Соссюр играют роль причудливого трёхглавого деспота.
О смерти философии:
Я не беспокоюсь по поводу возможной смерти философии. Задача философии, по-прежнему актуальная сегодня, — создавать концепты. Никакая другая область знаний не способна выполнять эту функцию. Разумеется, у философии всегда были конкуренты — стоит лишь вспомнить соперников Платона и шута Заратустры. Сегодня сферы информационных технологий, коммуникаций и маркетинга пытаются монополизировать понятия «концепт» и «креативность». Эти так называемые «концептуалисты» представляют собой заносчивое племя, которое лишний раз подтверждает, что продавать — ключевая идея капитализма и cogito рынка. Философия кажется одинокой и беззащитной перед подобными силами, но если она и умрёт, то только удавившись от смеха.