Наука Труда. Техника наблюдателя и политика участия
Издательство «Новое литературное обозрение» представляет книгу Павла Арсеньева «Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов».
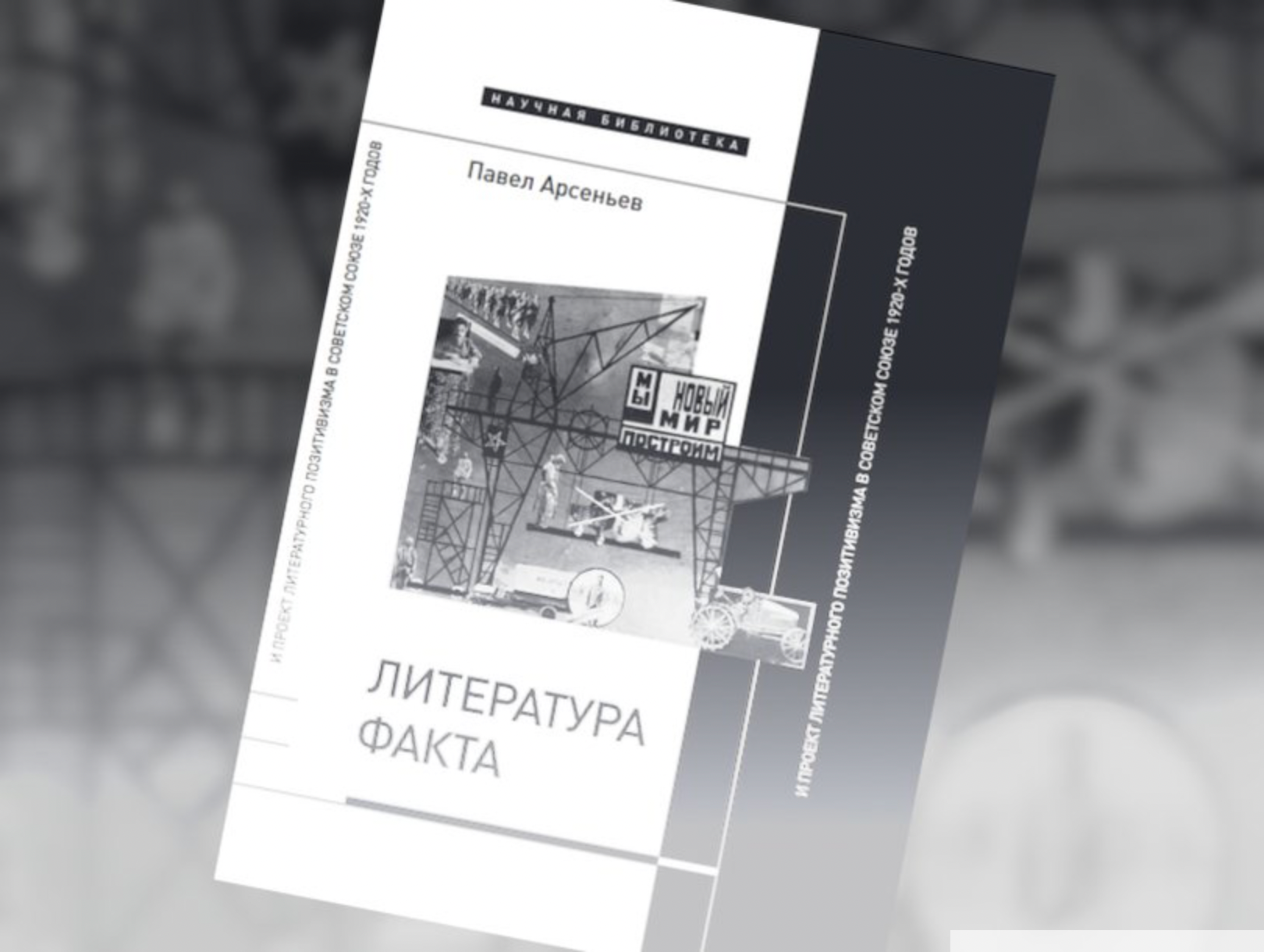
Монография посвящена советской литературе факта как реализации программы производственного искусства в области литературы. В центре исследования — фигура Сергея Третьякова, скрепляющего своей биографией первые (дореволюционные) опыты футуристической зауми с первым Съездом советских писателей, а соответственно, большинство теоретических дебатов периода. Автор прослеживает разные способы Третьякова «быть писателем» в рамках советской революции языка и медиа — в производственной лирике, психотехнической драме и «нашем эпосе — газете». Каждая из стадий этих экспериментов требует модификации аналитического аппарата от чисто семиотической призмы через психофизиологию восприятия к медиаанализу носителей. Заключительная часть книги посвящена тому, как литература факта смыкается с аналогичными тенденциями в немецком и французском левом авангарде (зачастую под непосредственным влиянием идей Третьякова, как в случае Беньямина и Брехта), а затем продолжается в такой форме послежития фактографии, как «новая проза» Варлама Шаламова.
Павел Арсеньев — поэт и теоретик литературы, главный редактор журнала [Транслит], лауреат премии Андрея Белого (2012). Доктор наук Женевского университета (Docteur ès lettres, 2021), научный сотрудник Гренобльского университета (UMR Litt&Arts) и стипендиат Collège de France, специалист по
Предлагаем к прочтению фрагмент книги.
НАУКА ТРУДА. ТЕХНИКА НАБЛЮДАТЕЛЯ И ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ
Наряду с техникой и поэтикой настоящего времени, уже сближавших автора с героем (или даже делавших их одним лицом), оказываются также важны политика пространства и связанная с ней техника наблюдателя1. Дело в том, что даже при устранении опасности жанрово-сюжетной деформации материала и учреждении грамматики газетной и кинохроники оставалась родовая дистанция «пространства литературы» по отношению к действию, искусства — к производству, poeien — к techne. В борьбе с этой дистанцией будет теоретически оформлено и практически реализовано, наверное, наиболее радикальное преобразование литературной конвенции, предложенное Третьяковым.
Будучи не способен «отделить себя от объекта труда»2, Третьяков в своей практике подпадал скорее под определение techne, а не poeien в терминах Аристотелевой эстетики. Если литературный позитивизм XIX века вобрал в себя эмпиристскую критику Аристотелева знания (через французский философский сенсуализм и научный позитивизм)3, то литературный постпозитивизм XX века, сознательно или нет, покушался на Аристотелеву эстетику, продолжавшую жить вплоть до модернистского культа творения как отдельного (от творца) произведения.
Техника наблюдателя: «сквозь непротертые очки»

Как мы уже уточняли в отношении корпуса, «классических образцов» метода фактографии меньше, чем теоретических манифестов, поскольку эта авангардная программа была не только неотделима от утилитарной социальной практики, но, как и многие другие, «остановлена на бегу», свернута или даже перехвачена советской ортодоксией. Однако очерк Третьякова «Сквозь непротертые очки» (1928)4 получил статус чуть ли не классического. Большинство очерков Третьякова были путевыми и посвящались довольно экзотическим местам вроде Китая или Грузии, да и в этом описывается перелет из Москвы в Минеральные Воды (а жанровый подзаголовок обозначен как «путевка»), но в нем происходит важная рекогносцировка.
В предисловии к очерку загадочные Редакторы (за которыми, скорее всего, скрывается сам автор очерка, бывший к моменту публикации редактором «Нового ЛЕФа») уточняют:
формально — это автокорреспонденция, т. е. описание своей специфики в ряду других вещей. По существу же — первый шаг, смыкающий нашу теорию снаучно-биологическим построением5.

В этой небольшой автокоррекции выражен центральный парадокс генеалогии фактографии: она одновременно принадлежит двум парадигмам — литературного позитивизма и дискурсивной инфраструктуры авангарда. Рассчитывая сообщить «действительные факты», полагающиеся первой («научно-биологическое построение»), рассказчик застревает на саморефлексивной процедуре, требуемой второй («автокорреспонденция, т. е. описание своей специфики»). В самом начале очерка Третьяков признается, что не только все старое искусство основано «на потребительском восприятии мира», но и он сам не владеет всей технической терминологией, необходимой, чтобы «смотреть на вещи производственными глазами». Однако он точно диагностирует, что именно такой дефицит точных знаний ведет к соскальзыванию к «литературе», и — как можно предположить, как минимум в этом саморефлексивном замечании — удерживается от этого:
Мотор кричит на разные голоса. Летчик в голосах мотора читает состояние металла, изношенность частей, здоровье клапанов, силу тяги. А я не знаю даже, скольким оборотам винта эти разные голоса соответствуют. Я вижу мотор сквозь непротертые очки, мне не хватает цифр (20, курсив наш).

Третьяков носил очки — на всех известных фотографиях мы видим его бритую голову и чаще всего вполне протертые очки. Но в полете они, конечно, могли запотеть и потерять свою разрешающую способность. Во всяком случае, этот атрибут частой и интенсивной работы письма и чтения уступал очкам пилота и, следовательно, его практическому взгляду (или, точнее, слуху, если речь о «голосах мотора»):
Мы уже взобрались на нужную высоту, когда отворилась дверь, ведущая от пилотов, и человек с головой, одетой в кожу, подняв автомобильные очки на темя, долго смотрел в левое окно, откуда видны черный каучуковый пузырь колеса, навес крыла и тянущаяся к нему распорка, сделанная из жестяных (в действительности дюралюминиевых) манжет (20, курсив наш).
Мы так ничего и не узнаем о самом техническом устройстве самолета, но мы немало узнаем о сомнении рассказчика в тех или иных своих литературных техниках, о самих «непротертых очках» беллетристики, уступающих очкам пилота.
Если «Сентиментальное путешествие» — это самый типичный роман, то «Сквозь непротертые очки» — самый типичный образец литературы факта. Несмотря на намерение очеркиста сообщить точные факты, фабула здесь сведена к минимуму, откровенно говоря, ничего не сообщается, но мы узнаем все о самих механизмах видения рассказчика и его сомнениях в способности «что-то толком рассказывать». Рассказчик мыслит и, следовательно, все еще существует:
Сверху Москву я знаю только по планам <…> Поэтому у меня начинают работать механизмы поэта и литературщика — цепь примитивно привычных ассоциаций, приводящая все видимое или часть его к так называемым художественным образам.
Горизонт стремительно расширяется. В лад оборотам пропеллера набухают обороты речи. Сочиняется: взобравшись по воздушной лестнице, самолет бежит по ровному, накатанному, прозрачному плато.
А можно и так: поля, деревни, дороги, леса свалены в кругозор, как овощи в кухаркин фартук.
Можно сказать: чересполосица напоминает лоскутное одеяло (очень плохо).
Можно сказать: чернильные кляксы вспаханных паров (неверно, потому что таких линейно вычерченных клякс не бывает).
Язык тянется к фразе — трава перестает быть травой и кажется плесенью, тиной на дне аквариума, ибо глаз не в состоянии уже уловить травинок, хотя ловит еще известковую капель ромашек. Тут же возникают сравнения рубчатых картофельных полей с зеленым сукном диагональ. Мозг с омерзением отбрасывает сравнения с протертым сукном (больно уж сравнение протертое, несмотря на схожесть).
Огромное, иссиня-вспаханное поле треснуло тропинкой, как грифельная доска (опять образ). Над чернотою этого поля чувствую сброс самолета, от которого под ложечкой делается сладкая изжога. Сброс — потому, что черное поле теплее зеленого, от него горячий воздух вверх. Этот сброс обрывает серию литературно-художественных выводов (21).
В этом «диалектическом эпосе» рассказчик систематически сам дезавуирует свою способность рассказывать. Каждая фраза как бы пишется поверх другой, создает расходящиеся версии описания («можно сказать»), или, точнее, каждая из них последовательно отбрасывается, летит в корзину с бумагами: «очень плохо», «неверно»6. Диагностируемые автором стилистические огрехи очерка указывают и на психофизиологические симптомы «литературщика»: «язык тянется к фразе», «глаз не в состоянии уже уловить», а «мозг с омерзением отбрасывает сравнения». Как и у Шкловского, мы знакомимся не столько с некими сообщаемыми рассказчиком событиями, сколько с литературной теорией автора7. Причем ход его мысли и литературная машинерия обретают внезапную материальность: «в лад оборотам пропеллера набухают обороты речи», «отбрасывает сравнение с протертым сукном (больно уж сравнение протертое)». Немногочисленные описания и повествуемые события оборачиваются описанием языковых объектов и событий речи8.

Такое постоянное возвращение к терапии собственного — прошедшего школу футуризма9 — языка, разумеется, так и не позволяет начать рассказывать историю. Но если иные испытывают в подобных случаях «удовольствие от текста» (Барта), Третьяков — скорее отвращение от самодовольства языка. Важное отличие авангардной самокритики литературы от чисто модернистского саботажа рассказывания заключается в том, что здесь сама физическая среда «обрывает серию литературно-художественных выводов» (лети Третьяков над зеленым полем и холодным воздухом, этого могло и не произойти). Проблема, однако, не ограничивается только инерцией литературной фразы, под подозрением, если так можно сказать, сама материальность языка, пристальное внимание к которой позволило в свое время состояться заумной поэзии вопреки литературной традиции реализма, но которая теперь скорее мешает бывшему homme de lettres видеть физическую реальность:
Черные полосы пахоты нажелто-зеленом фоне жнивья и полей складываются буквами. Чаще это «О», «Т», «Ш». Реже «Р» и «Ф». Шрифт прямоугольный, афишный (23).
Если ранние футуристы призывали бросить с корабля современности только литературных классиков, чей язык «непонятнее гиероглифов», то фактограф Третьяков пытается осуществить сброс (с самолета) самой профессиональной писательской оптики, заставляющей «язык тянуться к фразе», а близорукие глаза — скорее видеть буквы вместо вспаханных полей. На этот раз автоматизировалась не только предшествующая конвенция (русского реализма XIX века), но и сама литература как таковая — со всеми ее медиа-техническими и институциональными основаниями10. В конечном счете это требует отказа не только от «непротертых очков» прежних художественных стилей в пользу новых (формальных) изобретений, но их медиатехнического усовершенствования до фото- и киноглаза.
Модель фактографии оказывалась настойчиво визуальной: поскольку уже в формальной программе именно языковая автоматизация заставляла узнавать, а не видеть вещи («вещи заменены символами»11), в конечном счете фактография стремилась отказаться от дискурсивных средств в пользу визуальных, если не визионерских12. Здесь уже не просто слепота привычки, но слепота самого естественного языка должна быть сметена оптикой революционной надежды и научной рациональности, а вместо «интриг» литературных и «слишком человеческих» проблем вообще в фокусе должны оказаться «действующие процессы»:
Нет действующих лиц. Есть действующие процессы. Сцены ревности, драки и объятия отсюда не видны, а деревни однотипны, как листья кустарника одного вида. Но зато отсюда видны хозяйственные районы, тучность урожаев и костлявая худоба недородов. Отсюда видны болезни уездов, нарывы районов, малокровие рек (24).
Если в первом выпуске «Нового ЛЕФа», как мы показали в предыдущей главе, Толстой заменялся рабкором, гибридно сочетавшим в себе писателя, читателя и «действующее лицо», то к концу существования журнала Третьяков приходит к оптике, в которой нет уже и «действующих лиц», но только бессубъектные процессы социалистического строительства или даже жизни земли13.
Политика участия: «на колхозы!»
В том же 1928 году Третьяков не только начинает наблюдать хозяйственные проблемы социалистического строительства с высоты птичьего полета, но и приезжает в конкретный колхоз «Коммунистический маяк» Терского округа, что между Пятигорском и Георгиевском. Собственно, предпринятое в предыдущем очерке воздушное путешествие — это уже первая часть пути, ориентированного «Коммунистическим маяком», но масштаб в нем пока вменяет бессубъектную оптику — в силу самого типа транспорта14.
Однако так же, как перелет в Минеральные Воды прервался
Самое важное для очеркиста — наблюдательный пункт, т. е. роль, в которой он ведет наблюдения. Самое скверное — это наблюдать в качестве туриста или почетного гостя: или увидишь по-обывательски, или не увидишь ничего (9).

Таким образом, проблемы со зрением остаются и по приземлении, и даже по прибытии в пункт назначения. Даже наблюдение на близкой дистанции чревато все тем же потребительски-туристическим взглядом, сохраняющимся как бы по инерции у только что покинувшего транспортное средство и все еще пользующегося литературным языком. Вопреки указаниям на свои наблюдательные посты — лектора в Китае и кинопостановщика в Сванетии, — Третьяков был критически близок в этих путешествиях к статусу туриста, пусть, возможно, и «революционного»19. Когда он отправляется в не столь экзотический, как его прошлые поездки, колхоз, то последовательно выступает против идиосинкразических туристической оптики и беллетристического письма20:
Очеркист <…> дает фактам не свои оценки, а оценки тех людей, которые находятся с фактами в деловой связи. Очеркист опросит старожилов, специалистов, знающих людей и приведет их мнения, не пытаясь выдавать за собственные. Там же, где писатель хочет воспринимать вещи со своей «писательской вышки», получается фальшь (203)21.
Это, безусловно, уже касается ценности материала, но все еще учитывает и опасности автоматизации литературной техники. (Очерк начинается со ссылки на слова Шкловского о «второй профессии» и во многом является ответом на его текст «Писатель и производство».) Но для Третьякова «деловые отношения с действительностью» предшествуют и определяют успех литературной техники, для Шкловского же скорее бывают затребованы самой литературой в качестве «мотивировки»22. Чувствуя этот разлом в лагере самого Лефа, Третьяков начинает искать союзников в других лагерях:
Когда бродяжил Горький, он это делал не потому, что ему так нравилось, а такова была его жизнь. Если он попадал в переделку, ему приходилось туго. А нашим инсценированным бродягам, в случае какой-нибудь беды — стоит только добраться до ближнего поселка, до сберегательной кассы, до телеграфного окошечка, до поездного билета. Их восприятие — это точка зрения прогуливающихся дачников (200).
«Инсценированные бродяги» это, собственно, потомки «дилетантов народности», тип которых выделил уже Добролюбов, противопоставляя им очеркиста Кокорева, кровно связанного с жизнью народа23. Как в физиологическом очерке XIX века, так и в колхозных очерках та или иная форма похода (в народ) за материалом предполагается в качестве обязательной, и спор идет лишь о том, насколько корректно ведется его сбор.
В настоящее время писательство переживает резкий сырьевой кризис. У него не хватает материала, о чем писать. События эпохи Гражданской войны были основным сырьем, <но> темы эти израсходовались. <…> Вот почему в последнее время писатели, учуяв катастрофическое свое положение, усиленно потянулись за сырьем к действительности <…> именно этот сырьевой голод дал возможность Колхозцентру сгруппировать летом довольно большое количество писателей около мысли поехать на колхозы (201)24.
Однако поскольку этот ход очерковой литературой уже опробован (и в пределе не застрахован от неискренности или автоматизации), Третьяков указывает на требования к писателям, возросшие потому, что борьба теперь ведется на два фронта — со старым хозяйственным бытом, но и со старой литературой: «„Колхоз“ в советской литературе должен быть нами противопоставлен „имению“ в литературе классической, „коммуна“ — дворянскому гнезду», а Третьяков, продолжим мысль автора, — Тургеневу и Толстому.

Как и в случае полета в самолете, оказываясь в колхозе, Третьяков снова признается в своем невежестве — на этот раз в отношении агрикультуры — и снова устраивает показательный процесс над своей литераторской субъективностью (и в ее лице над всей предшествующей этому поворотному моменту русской литературой):
Я приехал на колхоз будучи полным профаном в сельском хозяйстве вообще и в колхозном деле в частности. Что я мог делать? Во-первых, заниматься так называемыми художественными описаниями. Ну, скажем, говорить, как шелестят мучнистые листья тополей в июльском зное. Или, скажем, что укакого-нибудь дяди Акима натруженная шея в таких же морщинах, как и пашня, над которой он стоит. Или, что, скажем, какая-нибудь деваха сконфуженно закрывается загорелым локтем (203).

К инерции стиля и словаря толкает оптика туриста, скользящего по поверхности, а та, в свою очередь, определяется отсутствием занятого «наблюдательного пункта» и принятием какой-то конкретной роли. Категории времени и пространства еще раз связываются в размышлениях Третьякова о пребывании фактографов «на колхозах»: для того чтобы написать репортаж, нужно не только использовать настоящее время (как того уже требовал ротационный пресс, но не исключал словарной механизации) или отправиться «на места» (чего, в свою очередь, требует фототехника, но не исключает туристической оптики), там еще нужно оставаться достаточно долго, близкая дистанция должна сочетаться с длительным пребыванием²5. Фактически Третьяков описывает собственные сложности: год спустя осмысляя этот опыт, он приходит к выводу, что еще важнее вопросов видения оказывается участие:
Во-первых, писателям не давалось на колхозе никаких деловых поручений (у них не создавалось второй профессии, кроме писательской); аво-вторых , они не получали точных заданий — что описывать и как описывать (отсутствие репортерской установки). Они ехали почти как прогулочники с котомкой. Все вытекающие отсюда неудобства пришлось испытать и мне, на своей собственной шкуре (201).
«Старолитературное отношение к вещам» в конечном счете зависит не столько от способа их видения и словаря описания, сколько от положения пишущего в контексте производственных отношений26. Именно это положение во многом и определяет оптику — будь то остраняющий взгляд или «нормальное восприятие знакомых вещей»27. Шкловский с помощью «второй профессии» все еще скорее рассчитывает остранить, а значит, спасти литературу за счет разности потенциалов, Третьяков оказывается настроен намного более радикально:
Когда Виктор Шкловский говорит о том, что писатель должен обязательно иметь какую-то профессию кроме писательства, это значит, что писатель должен вступить с действительностью в деловые отношения. Я знаю только один случай, когда писательство и вторая профессия совпадают. Это — репортер-очеркист, специально существующий в газетном аппарате для того, чтобы фиксировать действительность (200)28.
Шкловский склоняется к модели сохраняющегося разделения труда между литературой и «второй профессией», вдохновляющей первую своей инструментальной рациональностью, Третьяков предпочитает гибридизировать литературу с журналистикой в своей собственной практике29. Формальная теория создавала руководство по нарушению литературной конвенции, фактография (вслед за производственным искусством) стремилась к разрушению самого института литературы, который может пережить смену разных формальных приемов, но выталкивает из своей истории попытки отказа или пересмотра функции литературы. Именно такую «критику действием» в отношении самого института Питер Бюргер и называет авангардом. Сочетание отказа от литературной техники в пользу научно-технического знания «действующих процессов» и выход в утилитарную практику оставляло Третьякову мало шансов остаться в истории литературы. И поэтому он остался в теории литературы:
я уговорился стоварищами-колхозниками в следующий раз поехать к ним на долгий срок и обязательно на конкретную работу (204, курсив наш).
Физиологический очерк уже настаивал на экзистенциальной, а не только оптической близости автора с описываемым, модернизм требовал технического закрепления грамматики настоящего времени. Наконец, фактография синтезирует эти требования единства «времени и места» и добавляет к ним требование «единства действия» — но уже не в театре, а в реальной жизни.
Такое участвующее наблюдение, не только подразумевая отправку профессиональных писателей на колхозы, но и грозя полностью изменить их быт, то есть сделать его совсем не «литературным бытом», немало напоминает требования этнографического метода30, но при этом фактография представляла собой высокотехнологичную форму этнографии.

Если эпический театр Брехта, на который так повлиял Третьяков, требует у актера подчеркивания факта условности, продолжения драматизации cogito, то в случае включенного и длительного наблюдения фактографу требуется скорее максимально раствориться в самом производственном пейзаже. В конечном счете предпочесть не только туристическому взгляду производственный, но и вообще всякой «слишком человеческой» оптике эпическое видение, в котором человек уже оказывается только одним и далеко не центральным из акторов и где равной агентностью обладают вещи31. Тогда в фокусе оказываются «действующие процессы» исторического или даже геологического времени. Эту дистанцию и можно назвать эпической, но у нее есть свои конкретные научно-технические приспособления: так, к примеру, биологические процессы становятся видны благодаря ускорению длительной съемки32. Так или иначе, «наш эпос» уже не просто литературный жанр, противостоящий предыдущим³3 и обязанный определенному технологическому диспозитиву — газетной и/или кинохронике, но некое «научно-биологическое построение» самой записывающей себя реальности34.
Также опубликовано на polit.ru
1 Понятие «техника наблюдателя» мы используем в значении, предложенном в: Крэри Дж. Техники наблюдателя. М.: V-A-C press, 2014.
2 Tretjakow S. Der Schrift steller und das sozialistische Dorf. S. 42.
3 Эту традицию можно считать источником литературного позитивизма XIX века, однако «терапия языка» Бэкона может быть рассмотрена и как чисто лингвистическая техника внимания и остранения восприятия,
4. Третьяков С. Сквозь непротертые очки // Новый ЛЕФ. 1928. № 9. С. 20–24. Далее страницы указываются в тексте.
5. Примечание редакторов впервые появляется в сборнике «Литература факта» 1929 года (см.: Литература факта. С. 235).
6. Ср. это с авторефлексивным рассказчиком Вальзера, который тоже не «в состоянии что-то толком рассказывать» и повествует о гипотетических событиях, которые он мог бы вообразить или описать (см.: Вальзер Р. Прогулка / Пер. с нем. М. Шишкина // Вальзер Р., Шишкин М. Прогулка. Вальзер и Томцак. М.: Ad Marginem, 2014. С. 7–64).
7. По мнению Барбары Вурм, в опыте каждого жанра, к которому прибегает Третьяков, вплоть до рецензии, скрывается зерно поэтологии. См. подробнее: Wurm B. On Tracks, Facts, and the Living Man. Sergei Tret’iakov’s Implied Ethnographic Turn (or: Appropriating Vladimir Arsen’ev) // Russian Literature. 2019. № 103–105. P. 184.
8. Рядом с людьми техники и работающими моторами Третьяков испытывает самые сильные сомнения в состоятельности русского литературного языка и жанровой традиции травелога. Ср. аналогичные затруднения уже обсуждавшегося путешествия Третьякова на аэросанях: «Трудно приноровиться к новым ощущениям. Все время переводишь их на язык уже знакомых ездовых впечатлений. <…> Готовясь к очерку, перебираешь в голове словесный инвентарь». Перебрав сравнения с уже имеющимся к тому моменту опытом путешествия на аэроплане, поезде и автомобиле, Третьяков вынужден закрепить опыт аэросанного пробега новым наречием: «идем „полным скользом“» (Третьяков С., Громов Б. Полным скользом. С. 15–16).
9. Третьяков делает небольшую скидку остраненному видению: «Несколько интереснее, но все же обывательски, набор непосредственного опыта новых и необычных явлений и ощущений» (22).
10. Питер Бюргер описывает разницу между модернистским эстетизмом и авангардом как разницу между критикой предыдущих художественных школ и критикой самого института искусства (см. подробнее: Бюргер П. Теория авангарда).
11. См.: Шкловский В. Искусство как прием. С. 11.
12. Разумеется, в самом названии очерка «Сквозь непротертые очки» можно видеть аллюзию на библейское выражение «сквозь тусклое стекло» из Первого послания к Коринфянам (см.: 1Кор. 13: 12), означающее неполноту нашего знания о божественной сущности.
13. Как и многое в корпусе Третьякова, такая оптика предвещает появление постгуманистических тенденций не только в нарративной поэтике (чему посвящено знаменитое эссе; см.: Третьяков С. Биография вещи // Литература факта. С. 68–72) или методологии гуманитарных наук в структурализме, но и в философской антропологии. См. об этом подробнее: Арсеньев П. Техноформализм, или Развинчивая русскую теорию с Латуром. С. 166–192. Видение же земли как живущего и страдающего тела, в свою очередь, вполне допускает сравнение с современной постгуманистической оптикой, и в частности с понятием Гайи у Б. Латура. См.: Latour B. Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique. Paris: La Découverte, 2015.
14. «Билет на самолете от Москвы до Минеральных Вод стоит столько же, сколько мягкий с плацкартой в курьерском» (Третьяков С. Сквозь непротертые очки. С. 20).
15. «В Харькове самолет был отправлен в ремонт, а мы — пассажиры — на станцию железной дороги для дальнейшего следования поездом согласно пункта 15 правил, изложенных в летбилете» (Третьяков С. Сквозь непротертые очки. С. 20).
16. Третьяков С. На колхозы // Новый ЛЕФ. 1928. № 11. С. 8–14. Далее страницы приводятся в тексте.
17. «Уже каких-нибудь семь верст до Георгиевска. Около самого Подкумка автомобиль делает три прыжка и останавливается: бензин кончился. Десяти пассажиров он не смог довезти. <…> Шофер несет бензин с элеватора. <…> Но бензина мало. Не доезжая трех километров, автомобиль сворачивает по вечернему полю в сторону. <…> Шофер ведет машину целиком через поле, не разбирая канав. На одной из рытвин Форд издает резкий лязг, и передняя рессора ломается пополам» (14).
18. Оба очерка, впервые опубликованные в «Новом ЛЕФе» (№ 9 и № 11 за 1928 год соответственно), впоследствии войдут в сборник в качестве открывающих: Третьяков С. Вызов. Колхозные очерки. М.: Федерация, 1930.
19. См.: «Китай я наблюдал, соприкасаясь с ним в качестве лектора Пекинского университета» (9). Вопреки этому Третьяков не мог избежать роли «туриста или почетного гостя» в своем китайском путешествии, или, по крайней мере, такой эффект фрагментарного восприятия мог характеризовать сам путь из Москвы в Пекин, в котором Третьяков на каждой станции должен был «кодачить» по рекомендации Брика. См.: «Ты на станции — все отметь вплоть до афиш, смытых дождем» (Третьяков С. Москва — Пекин. С. 33). Именно с урывочными впечатлениями дороги Третьяков и связывает туристическую оптику, в которую только и могут попасть «афиши, смытые дождем» — да и те с трудом или с подозрением на статус литературного штампа. Ср.: «Ося говорил — „афиши смыты дождем“. Я выскакивал десятижды — нет афиш, смытых дождем, вообще я не видел афиш» (Там же. С. 38).
20. Цитируемый далее очерк впоследствии, во втором издании, получает название «Против туристов» (Третьяков С. Против туристов // Он же. Вызов. Колхозные очерки. М.: Федерация, 1932. С. 126–133), но в сборнике 1929 года он еще выходит под явно рабочим заголовком: Третьяков С. О том же. (Писатель на колхозе) // Литература факта. С. 200–205. Далее мы цитируем по нему, приводя страницы в тексте.
21. Запись мнения «людей, находящихся с фактами в деловой связи», наследует той записи фактов, которой занимались французские фонетисты, рассчитывая «записывать факты вместо утверждения априорных суждений» (Bréal М. Les Lois phoniques. P. 11). Вслед за этой наукой и техникой идет запись этнографами говоров, которые будут претендовать на роль «языка народа», даже если сами протагонисты с ними не особенно знакомы. Ср. «Выискивали непонятные слова из местных говоров и пожимали плечами — не говорили мы так» (Третьяков С. О том же. С. 203).
22. Ср. с моделью оды, затребующей сами социальные пертурбации, вызывающие ее к жизни, у Тынянова: Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр // Он же. Поэтика. История литературы. Кино. С. 227–252.
23. См.: «Не издали, не в качестве дилетанта народности, не в часы досуга, не для художественного наслаждения наблюдал и воображал жизнь бедняков, с горем и часто грехом пополам добывающих кусок хлеба. Он сам жил среди них, страдал с ними, был с ними связан кровно и неразрывно» (Добролюбов Н. Очерки и рассказы И.Т. Кокорева [1858]. С. 287–295).
24. В версии очерка, опубликованного в сборнике «Вызов», к этому добавляется такое условие доступа к действительности, как газета: «…если бы писатель этот был органически связан с газетой и имел в кармане корреспондентский билет, он этот доступ получил бы. Правда, беллетристическая свобода творчества была бы соответственно ущемлена рамками газетных требований. Газета заставила бы его выражать не „особое мнение“ литератора-одиночки, а то, что нужно» (Третьяков С. Против туристов. С. 126–133). Ср. это с тем, как «журналисту, составляющему газетную телеграмму, приходится мыслить синтаксически» (Винокур Г. Язык нашей газеты. С. 122), см. подробнее о грамматических принуждениях медиума в главе «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики».
25. Такое пребывание уже неотделимо и от длительного фото- и кинонаблюдения и организации местного печатного органа (о чем см. ниже). См. очерки «Длительное кинонаблюдение» и «Колхозная газета» в: Третьяков С. Вызов. Колхозные очерки. М.: Федерация, 1932. С. 205–210, 258–266.
26. Эта смена перспективы впоследствии будет сформулирована Беньямином в «Авторе как производителе» под непосредственным идейным влиянием «колхозных очерков» Третьякова. См. подробнее об этом трансфере в следующей главе «(Продолжение следует) в Германии: Автор как производитель и учитель других авторов», и особенно главку «Лекция в Берлине, или Советский колхозник на рандеву».
27. Тренин В. Рабкор и беллетрист // Литература факта. С. 215.
28. Ср.: «Во всяком случае корреспондентские билеты газет я ощущал в кармане как реальность, не в пример мандату Федерации писателей и колхозцентра» (Третьяков С. На колхозы. С. 9).
29. См. подробнее о «второй профессии»: Шкловский В. О писателе // ЛЕФ. 1927. № 1. С. 29–33, а также наш анализ этого текста в главе «Как быть писателем и делать полезные вещи».
30. А также ряд методологий, распространяющих его принципы на любую, а не только экзотическую повседневность, как, например, этнометодология.
31. Именно эту перспективу предлагает знаменитое позднее эссе Третьякова «Биография вещи», которое мы разбираем ниже.
32. Нечто подобное по отношению к текстовым объектам предлагает современный квантитативный формалист К. Моретти. См. наш анализ его метода: Арсеньев П. «Видеть за деревьями лес». С. 16–34.
33. Как это отмечал уже Беньямин в «Рассказчике», борьба эпического повествования с романом связана с некоторыми производственными операциями — ремесленными или индустриальными. См. главу «Нежный эмпиризм на московском морозе и трудовая терапия „Рассказчика“».
34. Такое «научное построение» продолжает наследовать эмпирической гуманитарной науке, уже в XIX веке сочетавшейся с точными методами и современной техникой записи. Ср. у Бреаля: лингвистика «благодаря Эдисону и Марею начнет писать звуки — или, точнее, они будут писать себя сами» (Bréal М. Les Lois phoniques. P. 11; перевод и курсив наш); подробнее в эссе «Живая речь против мертвых языков» в ЛП.
