"Апофеоз беспочвенности" Л.И. Шестова: опыт чтения

I
«Опыт чтения “Апофеоза беспочвенности” Л.И. Шестова» — взяв название в кавычки как будто не свое, я принужден споткнуться уже на первом шаге, споткнуться — в буквальнейшем смысле — на пустом месте. Сам опыт чтения — мой, как и каждого, кто читает, но означает ли это его непроблематичность? Однозначности здесь быть не может: в конце концов, пусть каждый и ответит, а отвечать за каждого — гиблое дело. Я же чувствую, что без такой проблематизации он перестает быть моим, отходя в область какого-то объективного знания, которое, может быть, и важно, и правильно, но мне ничего не говорит — если опыт не мой, то он для меня немой. Пустота места всегда в неразвернутости простого. Вопрос в том, достаточно ли того, чтобы простое было развернуто как объективно значимое для каждого .
Кому я его задаю — не себе ли? Тогда сам и отвечаю — нет, недостаточно. Этого могло бы хватить, желай я постичь объективные законы мира или человека. Согласно теории нейронной переориентации (neuronal recycling), к примеру, за чтение отвечают те же отделы мозга, что и за распознавание мелких предметов. В качестве объективно значимого так и постановим: чтение есть распознавание мелких предметов. Много ли сказано этим идеальным определением об опыте чтения? Не слишком. Но как об этом опыте вообще можно что-то сказать?
Разными способами. Но ясно одно: опыт чтения, допустим, есть просто опыт как мой опыт. Опыт не столько мысли, сколько чувства: всегда впереди чувство как «нравится — не нравится», как «буду читать — не буду» в конце концов! О том и Бердяев в статье о Шестове пишет, упрекая его в психологизме: «Переживания можно только переживать, живой опыт можно только испытать, а всякая литература, всякая философия есть уже переработка переживаний, опыта, и это совершенно фатально» [Бердяев, 1996; 470]. Вскоре вернемся к этому, но не сейчас. Пока же скажем лишь: да, мысли уже потом. Элементарная единица понимания — всегда текст, но текст есть не только то, что как текст определено автором. Предложение уже само текст, обладающий смыслом поверх совокупности слов. Два предложения — тут еще интереснее, ибо смыслом обладает и первое, и второе, а смысл общего есть не их совокупность, но некое сверхтекстовое единство в них сказанного. Три, четыре, пять, шесть предложений, абзацы, страницы, главы, части, тома… Сколько текстов мы читаем, читая один? «Критика чистого разума» отдельно — один текст, все три «Критики» — другой текст, весь корпус сочинений Канта — третий и так далее.
И все же опыт чтения — здесь ключ и здесь развилка. Во-первых, ее можно просто проскочить, прочитав и задумавшись лишь о том, что сказано, а не о том, как прочитано. Можно было бы сказать «о содержании», но так ли это? Что такое «содержание», как не совместное держание текста автором и читателем? Здесь уж скорее пристало говорить об использовании — текст как средство, а не чтение как цель. Во-вторых, можно задуматься над опытом чтения, но оставить мысль о нем при себе. В-третьих, наконец, можно об опыте чтения попытаться сказать. Не это ли делает Шестов, книга которого, по свидетельству Иванова-Разумника, «первоначально была задумана как одно целое под названием “Тургенев и Чехов”»? [Баранова-Шестова, 1983; 64].
Дадим слово А.В. Ахутину: «Шестова часто упрекали в том, что он заставляет всех привлекаемых к делу авторов говорить слишком уж
Тогда опыт чтения обречен быть словом о чтении, но словом не простым, иначе говоря — не пересказом. Именно обреченность опыта, облаченность его в речь или письмо, и только она задает со-держание текста как таковое. И не беда, что в разговоре о Шестове сам Шестов и его взгляды могут даже не упоминаться: не он ли сам говорил, что «единственный способ уберечься от позитивизма… — это перестать бояться нелепостей…» [Шестов, 1996; 109].
Пусть вместо взглядов останется лицо, взгляд, глаза. Отвечая Бердяеву именно на те его слова, что цитировались выше — чуть не довел я до того места, где Бердяев торжествующе вскрикивает: «На этом месте ловлю я автора “Апофеоза”…», «ловлю» именно на психологизме, на непереводимости опыта в дискурс, — так вот, именно на них Шестов отвечает с искренним недоумением, будто даже конфузясь от того, что приходится высказать очевидное и немного обиженно:
«Что правда — то правда. Поймал. Только зачем ловить было? И разве так книги читают? По прочтении книги нужно забыть не только все слова, но и все мысли автора, и только помнить его лицо. <…> А Бердяев ловит меня… Совсем непо-товарищески » [Шестов, 1996; 238], (Курсив мой — П.П.).
Впрочем, товарищами они еще будут, да что уж там — даже друзьями, именно потому что оба предельно искренни.
А пока: разве так книги читают? Чтобы поймать, уличить, оспорить? Шестов уверен — нет. Но как тогда? Об этом весь «Апофеоз беспочвенности», для меня, по крайней мере. Пусть будут заметки об опыте чтения заметок об опыте чтения. Заметка — та же примета, примечаемая как нечто важное для дальнейшего. А дальнейшее определено может быть лишь так, указанием на некую даль — не пространственную, а скорее временную, ведь кто же знает, куда нелегкая занесет. А может и здесь, на том же самом месте стоять буду, но в дальнейшем. Заметка не гадание, а просто взять и записать на будущее.
Поэтому хватит о Шестове, в самом деле. Вернее, перестанем бояться нелепостей и поговорим о Шестове, о нем не говоря. Лучше об опыте чтения. Впрочем, закрадывается мысль, что опыт чтения — возвращаясь к слову — только тогда и опыт, когда выражен. И незачем, действительно, тут ловить на слове. Есть, например, музыкант, читающий партитуру. Он ее, конечно, и про себя прочитать может — вспомним, кстати, что чтению про себя, столь для нас привычному, всего-то полторы с небольшим тысячи лет с момента удивления Августина перед чтением Амвросия. Так вот, прочитать про себя музыкант может, и может даже услышать музыку внутренним слухом. Но ведь музыка — это музыка звучащая, это тоже опыт чтения партитуры, а иначе мы до того договоримся, что будет у нас музыка «про себя». Аналогия небезупречна, конечно, да и ладно.
Опыт чтения и в том, чтобы правильно войти в герменевтический круг, коль уж из него никак не выйти. Здесь, конечно, Хайдеггер: «Понять — означает не просто принять к подтверждающему сведению, но и изначально повторить понятое в смысле наиболее своей ситуации и для этой ситуации» [Хайдеггер, 2012; 52].
II
А. Итак, слово о чтении как об опыте чтения. Первичность опыта как чувства текста, его пульсации, его ритма, но и его интенции. Интенция разрывает связность как связанное заранее, интенция в скачке, выбросе из привычного ощущения мира и себя в мире. Не в том дело, чтобы встать на
Вот два опыта чтения одного и того же — знаменитого гомеровского списка кораблей.
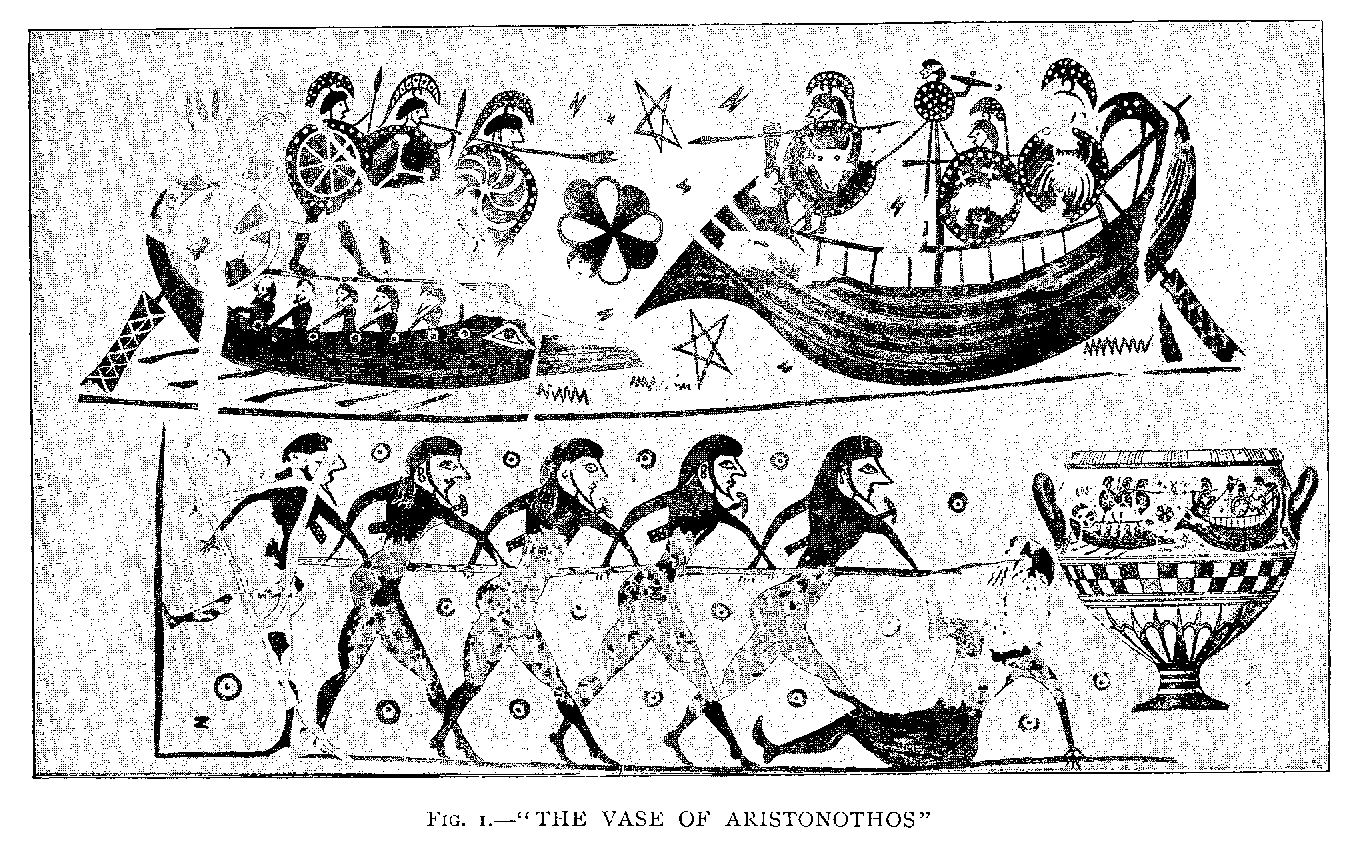
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи,-
На головах царей божественная пена,-
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Мучимый бессонницей, поэт начинает читать «Илиаду» и доходит до знаменитого: «Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа… // Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев» (Il. II, 484, 487) и чуть дальше, до середины списка — не до того ли момента, где «[в] стане, при черных судах, возлежал Ахиллес быстроногий» (Il. II, 688)? Впрочем, не столь уж важно.
Важно другое. Как поэт, Мандельштам не может перелистнуть несколько страниц вперед, отставить Гомера в сторону, разорвать текст. В то же время, бесконечное перечисление имен — разве в нем суть? Да и разве эти люди владыки данаев? Всё движется любовью — не только просмоленные корабли, плывущие на восток, не только их кормчие, но и сам Гомер, с помощью Муз их припоминающий, но и само волнующееся море. Опыт чтения Гомера приводит к тому, что Гомер замолкает, и поэт оказывается в ином пространстве. Где он? Он среди тех, кто плывет в чужие рубежи по
Что это за пространство? Пространство сна? красоты? вымысла? Важно, что здесь его нет и в этом смысле оно не-пространство, не-место. Опыт чтения списка приводит к тому, что в этом списке поэт находит свое имя. Похожие мотивы прозвучат на закате жизни Мандельштама в «Стихах о неизвестном солдате». Человек — «океан без окна, вещество», монада — и снова список, только уж очень жуткий, куда как жутче Гомера:
Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом…
Я рожден в девяносто втором…
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого темно и днем.
Океан без окна, вещество — но и существо, всегда существо! Существо вещества в нахождении, узнавании и встраивании себя в пространство списка, который без того есть пустая вещественность. «Еще раз я уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничто не забыто в этой ладье…» [Мандельштам, 1987; 67]. Вот, пожалуй, самое сильное возражение Бердяеву. Переданность опыта как омертвелость вовсе не фатальна: ладья мертвых — да, сколько угодно! лови, не поймаешь! Почему? Потому что именно для жизни.
Б. А вот еще один опыт чтения того же, вернее о нем заметка Йоргоса Сефериса:
Царь Асины
«И Асина…»
Илиада. II, 560.
В это утро мы обошли акрополь кругом, начав с теневой стороны,
где матово-зелёное море
— грудь подстреленного павлина —
встретило нас: без разрывов, сплошное, как время.
С кручи спускались скальные жилы,
голые лозы, чьи спутанные побеги
шевелила, касаясь, вода,
и наши глаза, следя за ними, боролись
с тягостным этим качаньем,
но выбивались из сил.
На солнечной стороне — широкий пустынный берег,
свет скользит по высоким стенам, шлифуя алмазы.
Ни души, улетели все горлинки, тишь,
и царь Асины, которого мы искали два года,
безвестный, забытый всеми, даже Гомером, —
в «Илиаде» всего одно невнятное слово —
нам предстал золотой погребальной маской.
Ты коснулась её: помнишь тот отзвук в дневных лучах, гулкий,
словно врытый в землю порожний кувшин, найденный на раскопе?
Словно плеск воды под нашими вёслами в море.
Царь Асины, пустота под маской,
ты с нами везде, везде, за именем прячась:
«Асина… Асина…» —
и дети его — эти статуи, и его
желанья — взлёты птиц, и ветер в зияющих щелях
между его размышленьями, и его корабли
на якоре у давно исчезнувшего причала —
таящаяся под маской
пустота.
За большими глазами, изогнутыми губами, кудрями,
отчеканенными на золотом покрове нашей жизни,
плывёт, как рыба в тихой морской дали, в утреннем свете,
тёмный знак, и ты его ясно видишь:
пустота, которая с нами везде и всюду.
И птица, что с перебитым крылом пролетала мимо
прошлой зимой
— ковчежец жизни, —
и молодая женщина, что приняла смерть
от клыков ощеренного лета,
и душа, что, пронзительно свиристя, уходит
в подземный мир,
и эта земля: широкий платановый лист, уносимый потоком солнца,
с памятниками старины и печалью сегодняшних дней.
Поэт, замедляя шаг возле старых камней, себе задаёт вопрос:
сохраняются ль здесь,
среди этих рваных линий, углов, зубцов, выгибов, впадин,
сохраняются ль здесь,
где скрестились пути дождя, ветра и разрушения,
сохраняются ль здесь движенья лица, очертанья любви
тех, кто так странно от нас ушёл, истаял,
тех, кто теперь — лишь призраки волн,
мысли перед бескрайним морем?
Или, может быть, остаётся лишь тяжесть,
лишь тоска по живой тяжести тела,
здесь, где отныне мы, бесплотные, пребываем,
сгибаясь подобно ветвям зловещей ивы,
что в долгом отчаянье громоздятся одна на другую
над жёлтой рекой, неспешно влекущей в илистой мути
вырванный с корнем камыш, —
лишь застывший облик
людей, приговорённых пить вечную горечь.
Поэт: пустота.
Щитоносец-солнце, сражаясь, ввысь поднималось,
и летучая мышь, в испуге метнувшись из грота,
столкнулась со светом — так в щит ударяет стрела:
«Асина… Асина…» Не это ли был царь Асины,
чьи следы на акрополе мы с таким стараньем искали,
трогая камни там, где их, быть может, касался и он?
Асина, лето 1938. Афины, февраль 1940.
[Бонфуа, 2016; 155–158].

Здесь другое или то же, да вообще здесь много всего. Поэта встречает то самое пространство списка — плотное, непроницаемое, «сплошное, как время», море во времени и море времени и он в этом море как точка непокоя. И безвестный царь, забытый всеми, даже Гомером, Гомером, который помнит — не сам, конечно, а с помощи и с позволения Муз, — всё! И у него для Асины нашлось лишь два невнятных, поблекших слова — предлог и имя, которое, если вспомнить Гегеля, не обозначает ровным счетом ничего, кроме указания на то, что перед нами субъект.
И казалось бы, велика беда — пролистни, пробеги глазами да и переходи уже к III книге, но нет. Опыт чтения здесь в том, чтобы вспомнить — попытаться вспомнить — то, что забыто всезнающим Гомером. Гомер оставил знак, надгробную плиту (σῆμα по-гречески = знак, могила) как возможность одухотворения. Вспоминая, пытаясь отыскать Асину, Сеферис наделяет значением и звучанием каждое имя в этом списке упомянутое. Имя перестает быть именем, за ним впервые открывается сам человек: безвестный, давно умерший эпоним раскрывается в самой природе, в области, продолжающей носить его имя.
Но успешна ли попытка поэта? Не обретена ли взамен живой жизни пустота под маской? Вгрызшись под слово — и прервав, что важно, тем самым процесс чтения, — Сеферис отправляется туда, где имя только и может быть наполнено содержанием, но на его пути встает сомнение: а точно ли найден тот, кого искали? Сомнение неизбежно, но сомнение плодотворно. Вместилищем смысла — ладьей мертвых для живых и для жизни — и здесь становится сам космос стихотворения, ковчег, спасающий жизнь от тления. В ковчег помещено то, что туда поместилось само — и в этом смысле поэт сам не знает, не может знать и понимать, удалось ли ему спасти Асину, удалось ли ему нащупать в вязкой пустоте под словом след живого присутствия. Решать не ему — он уже все решил своим действием.
Много смыслов осталось нераскрытыми — ловлю себя на мысли, что мои собеседники стали звучать по-моему, вспоминаю слова Ахутина. Где это звучание, что это звучание, мое ли оно как таковое? Совсем не важно — важно для объективного литературоведения ли, истории ли философии, а мне все одно. Нисколько не настаиваю на сказанном как на общезначимом, да и как на значимом вообще.
III
Читатель вправе спросить: при чем тут Шестов? Нет, указание на нелепость — это, конечно, хорошо, но не мало ли. Но тут все же кое-что еще есть. Для начала, поэзия, по крайней мере, современная, принципиально антисистемна. Хотя, пожалуй, асистемна — так правильнее будет. Нет ли тут противоречия, ведь чуть выше говорилось о космосе стиха?
Пожалуй, что и да, и нет. Текст как космос (по-ряд-ок) — прерогатива поэзии не то, что со времен Парменида, а гораздо раньше (ср. ведийскую «колесницу гимнов», греческий to metron как «меру», а уж только затем «метр»). Прилаженность, пригнанность слов друг к другу в противовес обыденной неприглядной речи. Так и только так, когда поэт — медиатор, проводник, не сказать бы пророк. Вся традиционная поэзия о том и через то, и потому она и теология, и наука, и философия, и потому — в том числе — система, пожалуй, первая из систем вообще. Но поэзия может быть и другой.
Конечно, остается закругленность стиха как имеющего начало и конец. Однако множественность смыслов, возможность подлинно своего понимания роднит его форму с формой афоризма. Здесь вход везде, здесь вообще всё вход и всё выход. О том и Шестов в своем бунте против теории познания: автономность разума это вроде и хорошо, но слишком уж быстро превращается она в тиранию разума.
Попавший в поле философии обнаруживает себя как сапер на минном поле: направо пойдешь — грозит отсечь голову гильотина Юма, налево — антиномии чистого разума, прямо пойдешь — еще что-нибудь позаковыристей, на чем и подорваться недолго. Вот и приходится надрываться, а иначе и шагу не ступишь — засмеют те самые теоретики познания. Скажут: кто же так познает, чай не Средние века на дворе. А Шестов бы сказал: «Очень жаль». Нет, жаль не того, что не Средние века, жаль, что вы не познавать хотите и не истину искать, а думать о том, как ее искать должно. «Все гносеологические споры о том, что может и чего не может наша мысль, покажутся нашим потомкам столь даже забавными, как и средневековые схоластические препирательства. “Для чего было им спорить о том, какой должна быть истина, когда они могли искать истину?” — спросят будущие историки. Приготовим для них ответ: “Наши современники не хотят искать и потому так много разговаривают о теории познания”» (АБ. II, 17).
И важен не столько путь, которым Шестов дальше идет, а само указание на возможность пути и на его необходимость. В герменевтический круг, считает Шестов, нельзя войти неправильно. Можно остаться в предкружии, конечно, и значит это путь не для тех, кто боится головокружения — эпиграф к «АБ» Шестов обнаружил на горных тропинках как предупреждение в адрес незадачливых путников. А у задачливого путника и
Вход везде, как и выход. Куда? — на поиски истины, разумеется. На поиски истины следует идти разоружившись — это, пожалуй, общее место для философии. Разоружиться значит отбросить все расхожие мнения, стереотипы, прежде всего и по преимуществу научные, позитивистские — тут Шестов категоричен. «АБ» заканчивается статьей Шестова о Мережковском, вернее, о втором томе его труда «Толстой и Достоевский». Шестов разочарован: «[К]акой великолепный образец свободной, доверяющей себе непоследовательности мы бы могли иметь в его лице! <…> Я всегда надеялся, что г. Мережковский, скорей чем кто-нибудь другой, решится требовать и для прозы той magna charta libertatis, которая уже давно считается неоспоримой прерогативой поэзии» [Шестов, 1996; 160]. Но нет, сплошная неметчина, сокрушается Шестов.
Вдумаемся: доверяющая себе непоследовательность. И в основном корпусе афоризмов об этом много: с чего, собственно, до̑лжно годами, десятилетиями держаться одних и тех же убеждений? Укреплять их, разрабатывать, оборонять — да для того, чтобы именно держаться, держать себя от хаоса и непредвиденности, а пуще всего от бессмыслицы бытия. Все можно вынести, но не её. И получается, что не мы держимся идей, а идеи нас держат — та же тирания разума. По Шестову, надо в эту бессмыслицу просто смело шагнуть, только не надеяться при том на его помощь.
Тогда что же, на веру положиться? С одной стороны, да: одно из любимых изречений Шестова — тертуллиановское «Credo quia absurdum». А с другой стороны — это дело, где пропадает «надо — не надо» потому что тут придется идти одному и каждому по-своему. Новаторство Шестова в том, что, разоружившись, не следует вооружаться. Догматизм? Вероятно, но специфического толка. В «Похвале Глупости» Шестов радостно подхватывает «динамический догматизм» у Бердяева: так и буду, говорит, теперь это называть, «адогматический догматизм», очень хорошо, «в погоне за другими глупостями я эту просмотрел» [Шестов, 1996; 238].
Вышел «Апофеоз беспочвенности» в 1905 году, фурор произвел необычайный. «Нет идеи, нет идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия» (АБ. Предисловие. I).
Литература:
1. [Ахутин, 2005] — Ахутин А. В. О втором измерении мышления: Лев Шестов и философия // Он же. Поворотные времена. СПб.: Наука, 2005.
2. [Баранова-Шестова, 1983] — Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. В двух томах. Т.I. Париж: La presse libre, 1983.
3. [Бердяев, 1996] — Бердяев Н.А. Трагедия и обыденность // Шестов Л.И. Собрание сочинений в двух томах. Том I. Томск: Водолей, 1996. С. 465–492.
4. [Гегель, 2008] — Гегель Г. В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета. М.: Академический проект, 2008.
5. [Мандельштам, 1987] — Мандельштам О. И. О природе слова // Он же. Слово и культура: Статьи. М.: Советский писатель, 1987. С. 55–68.
6. [Бонфуа, 2016] — Сеферис Й. Царь Асины // Бонфуа И. Век, когда слово хотели убить: Избранные эссе. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 155–158.
7. [Хайдеггер, 2012] — Хайдеггер М. Экспозиция герменевтической ситуации // Он же. Феноменологические интерпретации Аристотеля. Экспозиция герменевтической ситуации. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2012. С. 44–112.
8. [Шестов, 1996] — Шестов Л.И. Собрание сочинений в двух томах. Том II. Томск: Водолей, 1996. С. 4–181.
