Человек хороший # Игорь Силантьев
Летом в издательстве «Стеклограф» (Москва) выйдет книга короткой прозы и стихов Игоря Силантьева «Вагон-ресторан». Реч#порт публикует фрагмент из неë.
Игорь Силантьев — филолог, фотограф, преподаватель Новосибирского государственного университета. Прозаические произведения и стихотворные подборки публиковались в журналах «Крещатик», «Звезда», «Просодия», «Футурум Арт», «Реч#порт», «Дети Ра», «Двоеточие», «Квадрига Аполлона», «Сибирские огни», «Кочегарка» и др. Вышли в свет три сборника стихотворений.
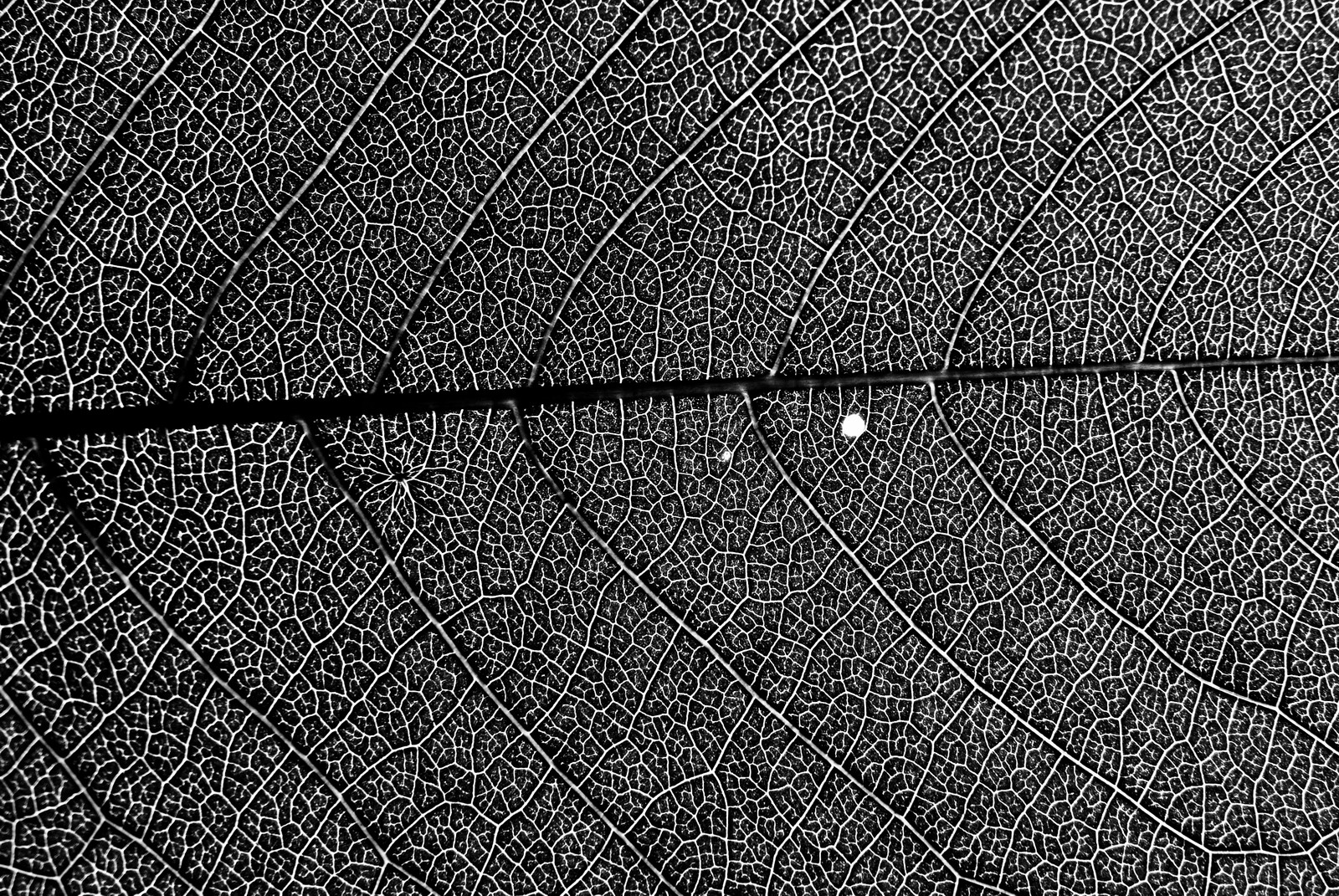
Человек хороший
Письмо счастья
Учитель географии Константин Евгеньевич, придя из школы домой, получил письмо. Вернее, не получил, а вытянул его, сложенное самолетиком, из дверной щели.
Это было написанное корявым почерком письмо счастья.
Константин Евгеньевич зашëл в дом, закрыл входную дверь на щеколду, надел очки и принялся читать, разбирая наползающие друг на дружку строчки.
«Мир тибе добрый чилавек и щастия. Пусть дом твой станит полнай чашый. Штоп всиво у тибя была. Денег штоп три мешка и машына и дача и жына малодая и барахтаца с ней будиш. А штоп все эта была, пирипишы письмо девить раз и в двери людям засунь. А не сделаиш таво, и будит тибе недобрая».
Константин Евгеньевич хмыкнул, сложил письмо обратно самолëтиком, вышел в подъезд и аккуратно подсунул бумажку под дверь соседу своему, дядьке Васе сантехнику, регулярно и буйно бухавшему по вечерам. «Пусть почитает…» — позлорадствовал географ.
Ночью того же дня Константина Евгеньевича, человека вроде бы и не хворавшего совсем, прихватил Кондратий, так что утром, после небольшой суматохи соседей и участкового, отправился учитель географии вместо школы в морг.
А дядька Вася пришел домой после ночной смены и не застал всей этой беды.
Подобрал дядька Вася с полу самолетик, прочитал его на три раза, почесал затылок, вырвал из затрепанной школьной тетрадки девять листков и аккуратно, слово в слово, переписал письмо. И даже ошибку в ошибку, поскольку в грамоте силен не был и ошибок просто не заметил.
Потом дядька Вася еще почесал затылок, взял письма и разнес их по подъездам и по дверям незнакомым людям.
Утром следующего дня в дверь квартиры дядьки Васи постучали. Продрав глаза после вчерашней пьянки, дядька Вася, худой и в одних трусах, открыл дверь и обнаружил на пороге двух светлорозовощеких дев из телевидения, которые объявили, что он выиграл миллион рублей в спортлото.
Дядька Вася надел мятый костюм в крупную полоску, опохмелился и пошëл на телевидение получать миллион. На телевидении ему объяснили, что миллион безналичный и лежит в банке на его именном счету. А в банке его ожидало другое удивление: ему как миллионному клиенту была подарена дача. Во как! А потом дядька Вася, впрочем, нет — Василий Егорыч — попал в ленту вечерних новостей, а после выступил в программе «Поле чудес», где в
А Константина Евгеньевича всë равно жалко.
+ + +
Вчера круглый день ко мне наведывались гости.
Приходили, т. е. приползали дождевые черви.
Залетали в форточку мухи и сыпались листья.
Какие-то сломанные топтались в дверях комоды.
Растерянные прыгали по лестнице мелкие монеты.
Танцующие были старики и ненаписанные письма.
И всех я потчевал чаем с клубничным вареньем.
Водил разговоры и конфеты давал и баранки.
И так продолжалось до двенадцати часов ночи.
Потом я лëг спать в опустевшей тëмной квартире
И долго не мог заснуть, потому что крутились
В голове моей гости, баранки и все разговоры.
А сегодня ко мне никто не пришëл, даже сам я.
Хорошо стало в доме и тихо и совсем никого.
Не нашёлся
Утром Иван проснулся и не нашëл самого себя.
Он пошарил руками в постели и ощутил тепло, оставшееся от его тела, но только и всего.
Иван потрогал штаны и рубашку, затем пошëл в прихожую и внимательно изучил пальто, шапку и ботинки. Да, одежда хранила его движения, но где же был он сам?
Иван пришëл на кухню, взял со стола кружку и поднëс к уху. В кружке шумело, как в океанской раковине, а из глубины слышался его, Ивана, голос. Но самого Ивана не было!
Он вернулся в спальню и распахнул окно. Холодный воздух принëс Иваново дыхание.
— Иван! — позвал Иван самого себя. Никто не отозвался.
Иван пожал плечами, осторожно прикрыл окно, забрался под одеяло и закрыл глаза.
+ + +
Гулял я бродил по супермаркету едва ли не день целый.
Или по гипер-, а то ведь, огого, и по мега-, не разберешь их.
Кособочился-пялился на витрины с гламурными часами.
Надевал-примерял-снимал шляпы и зауженные штаны.
А уставши, покушивал пиццу с анчоусами и орегано.
И напиток из свежих из выжатых попивал апельсинов.
И подумывал о том да о сëм и себе сам улыбался.
Ещë дамские ножки взглядами в аккурат провожал.
Только тут обступили меня всякие с ребëнками мамаши.
И мороженого продавщицы мороженое своë побросали.
И рабочие прибежали в специальных синих костюмах.
И манекены безголовые, ну которые совсем без голов.
И давай направлять в меня пальцы и тыкать и щупать.
Норовят от меня отщипнуть, отколупать хоть кусочек,
Будто глиняный я или пластмассовый или картонный.
И не больно мне вовсе, не страшно, но
Остаëтся, гляжу, от меня такой крохотный пупсик
На столе с недоеденной пиццей, с недопитым соком.
Подбегает тут к пупсу маленькая совсем девчонка
И хватает его. И к сердцу прижимает навсегда.

Победа
У Петровича зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал:
— Это кто?
— А ты кто? — спросил Петрович.
— А ты куда звонишь? — вопросом на вопрос ответили Петровичу и положили трубку.
— В самом деле, а куда я звонил? — задумался Петрович.
Номер звонившего ещë светился на дисплее. Петрович набрал его и спросил:
— А куда я звоню?
— А ты кто? — спросили Петровича.
— А ты кто? — спросил он в ответ.
— А ты куда звонишь? — опять вопросом на вопрос ответили Петровичу и положили трубку.
— Ну что за беда! — расстроился Петрович и выпил. Потом перевëл дух, снова набрал номер и сказал:
— Я это, звонил тут.
— Кому?
— Тебе.
— А ты кто?
— Ну который звонил.
— А куда звонил?
Трубку бросили. Петрович едва не расплакался и выпил ещë. Захмелев и набравшись решимости, он позвонил ещë раз и спросил:
— Ты кто?
— А ты кто? — спросили у Петровича.
И тут Петровича осенило.
— А ты куда звонишь? — спросил он.
— А-а-а! — на том конце телефонного провода раздался отчаянный крик побеждëнного и долгий грохот и разнообразный звон, как будто тот, побеждëнный и даже поверженный, стоял на стуле и вкручивал лампочку в люстру под потолком, и не удержался, и свалился со стула, и потянул за собой эту люстру, и попытался ее поймать, и при этом обрушил посуду в посуднице, и ещë ногой попал в стоявший зачем-то на полу пустой эмалированный таз для стирки белья, и телефон отключился.
Петрович торжествующе положил трубку и выпил в третий раз, за победу.
+ + +
Брат рептилоид, вот ты мне скажи,
Стоило тебе миллион лет назад
Бросать насиженный инопланетный быт
И прилетать и внедряться в землян?
Брат рептилоид ответил мне так.
Вот мы тут с тобой за пивом сидим
С обеда, а сейчас уже восемь часов.
И ты свой нос в наши дела не сувай.
Ну и как после этого быть?
Семейный альбом
От нечего делать Иван вытащил из шкафа старый-престарый семейный альбом с фотографиями и стал его листать и рассматривать.
Пожелтевшие, посеревшие, некоторые — поломанные фотографии были вклеены в
На снимках стояли и сидели дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, прадядюшки и пратëтушки, и еще какие-то другие прародственники Ивана, степень и линии родства которых он представлял себе с большим трудом. Все они пребывали в
И тут Иван понял, что неестественность их вызвана тем, что они давно мертвы.
— Ну конечно, — воскликнул он, — их умертвили фотографии!
Иван подумал о том, что фотография способна остановить взгляд, жест, желание, движение человека. Но у живых нет права останавливать движение жизни. Это право смерти. «Люди, — продолжал размышлять Иван, — или бесстрашны, или глупы и бесчувственны. Они сотнями собирают фотографии в семейных альбомах, не понимая, что собирают и хранят саму смерть. Даже просто открыть альбом с фотографиями — это огромный риск. Вот она, смерть, глядит на меня с пожелтевших карточек. А я беспечно сближаюсь с ней, как будто близоруко изучаю зубы в пасти крокодила».
И Иван, продолжая листать альбом, вдруг болезненно ощутил, как
Иван вскочил на ноги, пошатнулся и упал прямо в альбом, который тут же захлопнулся за ним. Иван оказался под тяжестью десятков тяжëлых страниц, между жëлтыми, пахнущими старым канцелярским клеем фотографиями, и сам стал желтеть и делаться плоским, как соседние снимки. Да полно, фотокарточки ли это? Ивану почудилось, будто он, распластанный на альбомном листе, со всех сторон придавлен по-насекомьи плоскими высохшими телами своих давно умерших родственников.
Почудилось ли? К счастью, правая рука Ивана оказалась снаружи. Каким-то последним усилием Иван изогнул еë в локте и приподнял легшие на него альбомные листы, и высвободил голову, затем плечи, затем другую руку, а ноги застряли: то ли в сухом клею, то ли в узорчатых краях виньеток. Наконец, он выбрался из альбома весь — и повалился на пол.
Больше Иван никогда не открывал и не рассматривал семейные альбомы с фотографиями и никогда не фотографировался.
+ + +
Бумажные люди живут среди нас незаметно.
Но я
С некоторыми из них я знаком немного.
Вот один. Из старых и пыльных газет сделан.
Жëлтый и славный, как деревенский китаец.
Марши танцует и криком кричит призывы.
Другой соткан из поэтического альманаха.
Он сизый от электричества рифм и метафор.
Колбасит его, беднягу, совсем не
А третий сложен из мятой жалобной книги.
Той самой, что тихо лежит в углу магазина.
И
Люблю я вот этого третьего и принимаю.
И сам с удовольствием жалуюсь я на долю.
Непросто понять последнюю эту радость.
И, расставаясь с компанией, чиркаю спичкой.
Ловите, ребята! Бумажные глупые люди
Ловят и вспыхивают, и
Но бумаги много. Назавтра приходят другие.
Жалко, не жалко, однако и сам я склеен
Из бутылочного стекла, голова из пробки.
Эх, бумажные робкие вы последние души,
Поймите вы сердце бутылочного человека!
И не судите строго, ну и летите уже прахом!
Но пламя всë ближе, и мое стеклянное тело,
Звоном налившись, лопается вдруг на части,
И пробковая голова становится головешкой.
Вот такие-сякие дела. И лишь то утешает,
Что битого стекла вокруг не меньше бумаги.
А значит, новые наши встречи не-из-беж-ны.

Игуанодон
Петрович лëг спать, а заснуть не может. В голове всякая чепуха крутится и вертится, то справа налево, то слева направо, а то вверх тормашками и кувырком.
Вспомнил Петрович, как в детстве его учила мама: нужно считать баранов — и незаметно заснëшь.
— Почему именно баранов? — подумал Петрович и начал считать:
— Один баран да один баран — два барана. Два барана да один баран — три барана. Три барана да один баран…
Пахнуло живой овчиной. Петрович вздрогнул и увидел четыре пары уставившихся на него из темноты круглых глупых глаз.
Он повернулся на другой бок и снова начал:
— Одна свинья да одна свинья — две свиньи. Две свиньи да одна свинья — три свиньи. Три свиньи да одна свинья…
Тут он почувствовал на щеке горячее нечеловеческое дыхание. В лицо ему хрюкнули.
— Тьфу ты! — рассердился Петрович, лëг на спину и широко раскрыл глаза.
— А меня посчитай? — откуда-то сверху свесилась похожая на дыню большая голова с клювом и многими мелкими зубками.
— Да кто ты? — спросил Петрович.
— Я игуанодон, — ответила голова-дыня.
— А ты, того, не опасный? — поинтересовался Петрович.
— Что ты! Употребляю только траву, — ответил игуанодон и для убедительности махнул толстым хвостом, опрокинув при этом стол и пару стульев.
— Ладно. Один игуандо… Тьфу! Один игуанодон да один игуанодон — два игуанодона. Два игуанодона да один игуанодон — три игуанодона. Три игуанодона да один игуанодон …
— А меня посчитай? А меня? А меня? — Петровича окружили различные существа, мелкие и крупные, знаемые и незнаемые: мыши, какие-то блестящие жуки, пара ежей, выхухоль, и ещë кто-то хвостатый и
— Отстаньте! Дайте уснуть! — прокричал Петрович.
Тут компанию растолкал игуанодон.
— Да ты уже всю ночь спишь, дурак такой! — сказал он голосом Петровичева начальника. — А ну вставай!
Петрович закрыл глаза и, наконец, заснул.
+ + +
Ночью в окошко бабай постучался.
— Вот, — говорит, — настоечки лунной
Заделал на папоротнике и землянике.
Выпьешь со мной? — Ну стопочку только.
Знаешь ведь сам, твой напиток дурманит.
Закусывать нужно сразу и плотно
Ломтëм предрассветного неба сырого,
Не то на весь день душа разболится.
— Ты только того, не переборщи с закуской, —
Бабай отвечает. — А то тут недавно
Один та-ак на небо свой рот разинул,
Что голова раскололась его на части.
Освобождение
Забавно было Ивану ловить женские взгляды, но получалось это не всегда.
Взгляды отрывались от женских глаз и пускались в свободное плавание. Некоторое время они сохраняли форму глаз своих прелестных хозяек и напоминали Ивану аквариумных рыбок.
Эти бесплотные рыбки были разные и разноцветные: упругие, смело и вдруг открывающиеся, будто серебристые скалярии, бойкие и настойчивые, как тëмные огненные барбусы, плавные и мягкие, незаметно расширяющиеся к середине и потом теряющиеся, словно жемчужные гурами.
Натыкаясь на Иванов взгляд, рыбки прыгали и исчезали во мгле только что прошедшего, другие, любопытные, крутились у Иванова лица, то приближаясь, то разлетаясь в стороны, а третьи медленно проплывали мимо, не обращая на Ивана никакого внимания.
Но бывали и такие, что встречались с Ивановым взглядом и забирались внутрь его глаз, и пропадали там.
Такие запавшие в Ивана взгляды долго потом не могли выбраться наружу. Они тыкались, кружась в его голове, дотрагивались до его сердца, опускались ниже, ещë куда-то ниже, потом резко поднимались и снова ударяли в голову.
Женские взгляды-рыбки тревожили Ивана, будоражили его воображение смутными нескромными фантазиями и мешали засыпать, при том что сами хозяйки уже и
Ночью Иван поворачивался на спину и просыпался. Широко открыв глаза, он подолгу смотрел на тëмный белый потолок. И тогда заблудившиеся в Иване женские взгляды, наконец, обретали свободу и исчезали в ночной тьме.
Пустой и спокойный, Иван засыпал снова и крепко.
+ + +
Я поставил на стол стакан, полный воды.
Потом потянулся открыть вечернее окно,
Но запутался в шторе и стал еë поправлять
И при этом задел и опрокинул стакан.
Вот он округло лежит на гранëном боку.
Вода по пустому столу вся разлилась
И на пол сбегает. Ëмкий стекольный звон
Сменился дробью капель и веером брызг.
И вместо того, чтобы всë это сразу убрать,
Я распахиваю настежь окно и снова сажусь
За мокрый стол. А небо уходит в закат,
Отвечая стеклу тонким и ровным лучом.
И разлитая вода забирает упавший свет.
Но всë же немного неба достаëтся и мне.
А много не нужно. И в следующий момент
Возникает новая странная острая связь.
Возникает сцепление несоразмерных частей.
Это, собственно, я, и свет, взятый водой,
И особенный тонкий путь, ведущий поверх
Почти зашедшего солнца. И я уже там.
Понемногу уходит в зелень закатная медь.
Сгустившийся воздух мне холодит лицо.
И я ещë здесь. С кухонной тряпкой в руке
Я тщательно, насухо вытираю мокрый стол,
А потом убираю стакан в посудный шкаф.
Я всë ещë здесь, среди привычных вещей.

Смартфон
Петровичу на день рождения подарили смартфон.
— Зачем оно мне? — спросил Петрович.
— Будешь делать селфи, — ответили ему.
Гости ушли, а Петрович стал вертеть игрушку и тыкать пальцем в разноцветные иконки. Наконец, нашëл значок, похожий на фотокамеру, обратил смартфон на себя и нажал кнопку. Гаджет смачно щëлкнул.
Петрович поглядел на экран, закричал и бросил смартфон на стол. На него смотрела страшная рожа: одна лиловая щека в полтора раза шире лиловой другой, нос баклажаном, глаза красно-зелëные, а рот как у лягушки.
Петрович подбежал к зеркалу и обомлел: ровно такая же рожа смотрела на него из отражения. Ощупал Петрович лицо — да, вот он нос баклажаном, вот они щëки развислые, а вот губищи.
Петрович заметался по квартире, наткнулся на неладный смартфон и вдруг заметил выскочивший на экране значок: «Улучшить изображение».
— Так-так… — затыкал Петрович. — Образцы… Ага, вот… Ди Каприо. Нет. Джонни Депп. Ну нет… Вот гад же ты!… Джордж Клуни. Ну, может быть. — И Петрович ткнул было в Джорджа Клуни, но второпях промахнулся и перелистнул.
Гаджет щëлкнул подозрительно тихо. Петрович заглянул в экран и противно завизжал. С крепкой мужской шеи на него пялилась Леди Гага. Накрученные розовые локоны игриво прыгали на честные мужские плечи.
Петрович не пошëл к зеркалу. Он и так всë понял. Пахнущие какой-то сладкой дрянью локоны зудили шею и плечи.
Он взял смартфон, как берут жабу, которую хотят удавить, и сквозь навернувшиеся дамские слëзы стал лихорадочно листать картинки с мужиками. Снова вернувшись к Клуни, на этот раз — в компании с лабрадором, Петрович с замиранием сердца ткнул пальцем.
Гаджет зловеще клацкнул и брякнулся на пол, а Петрович замахал хвостом, залаял и запрыгал вокруг мерцающего экранчика, шлепая по нему лапой. На экране завертелись разные картинки: автомобили, колготки, кандидаты на пост президента США, какие-то глубоководные рыбы, чудо-сковородки, косяк перелетных птиц в лучах заката… Собачья лапа накрыла смартфон.
Гаджет сработал с глухим окончательным звуком. С таким первая лопата земли шлëпается на гроб, опущенный в могилу.
— Га-га! — крикнул Петрович, захлопал крыльями и вытянул гусиную шею. Потом разбежался и улетел в распахнутое окно со смартфоном в клюве.
«Хэппи бëздэй ту ю-у-у…» — безмятежно пиликал уносимый в небо подарок на день рождения.
+ + +
Шëл я вдоль лесной опушки по тропке.
А из чащи древесной на меня выходит
Зверь ли, мужик? Потом пригляделся —
Идëт ко мне прямиком старик старый.
Худой он и в шортах, волосаты ноги.
Капитанская на седой голове фуражка.
А глаза овальные с искрой навыкат.
С ружьëм наперевес он с двуствольным.
Подходит, обращает ко мне речи такие:
Ты, говорит, однова живешь, парень,
А понастрадал уже ох ерунды всякой,
И себя потерял в этой краткой жизни.
Остановись, говорит, дурак очумелый,
Да в травку сядь, да погладь еë ромашку,
Да взор подними к затаëнному небу,
Да напейся воды, что с облак сочится.
А после в солнечный огонь полешком
Полезай, и другого уже пути не будет.
А не то стрельну тебя дробиной крупной.
Крутанëшься с боку на бок и навзничь.
Послушал я безумного деда лесного,
Да в лоб ему жердиной сухой заехал.
А потом поперëк спины ещë прошелся.
И ружьë от греха закинул в чащу.
И пошëл дальше вдоль лесной опушки.
Жизнь, она коротка, что тут скажешь.
И живëм однова, ну удивил дед, тоже!
И нечего махать ружьëм тут ржавым.
Вот только всë одно зовет солнце.
Подумалось
Пришëл Иван в лес и увидел, что наступила осень. Деревья совсем голые, ветер с них последние листья срывает и носит их кругами и петлями, а потом бросает на землю к неживым их собратьям. И шуршат листья под ногами Ивана. А ветер опускается и вновь отрывает листву от земли, и бесконечный шелест заполняет Ивану слух. Это раскричались потревоженные листвяные души.
— Вот интересно, — подумал Иван, — а если бы и люди, как эти листья, если бы все люди на земле тоже умирали сразу, все вместе, осенью? А весной нарождались бы новые и жили до следующей осени, и опять умирали.
Иван помедлил, словно бы ждал ответа. А кто же ответит ему в пустом лесу?
Тут ветер снова упал на землю и взметнул перед Иваном полосу сухой листвы. Мир закружился вокруг Ивана острыми нечеловеческими цветами: усталым зелëным, горьким ржавым, терпким жëлтым и горячим алым. Листья облепили Ивана, и он бросился из леса прочь. Так и выбежал на опушку в листве, которая клубилась вокруг него, будто пламя. Иван хлопал себя руками, прыгал, топал ногами, пытаясь освободиться, отбиться от этой напасти.
Наконец, упал последний лист. Иван скорыми и частыми шагами уходил от леса и старался больше не думать об осени, о
+ + +
Кто бывал на болотах, тот знает,
Как нежно облегают их травы.
Это всë потому, что болота —
Открытые внутренности леса.
Среди тихих дождей ступая,
Уступая дорогу деревьям,
Помнил ли ты об этом?
Знал ли о том, что не помнил?
Но ты не поделил тропинку
С червями и поэтому умер
Под утро. Побудь немного
Мëртвым. Побудь до рассвета.
Фиодор
Бывает, что человек перестает пить и не пьëт день, два и даже три. Не потому, что завязал или из идейных соображений, а просто так. Бывает, что и четыре дня не пьëт, и пять, и даже шесть, но это очень редко. Науке также известен случай, когда человек не пил неделю.
Петрович не пил уже восьмой день.
Уже совсем и не Петрович стал. Сердце стучит размеренно и бессмысленно, голова пустая, давление как у космонавта из букваря, настроение ровное, улыбчивое. Хоть в телевизоре снимайся.
Только вечером восьмого дня к нему постучали.
Открыл Петрович дверь и ахнул. Стоял перед ним невысокий такой, зеленоватый, в мешковатой ризе магистр Йода.
— Неспроста ведь пришëл я к тебе, Петрович, но по надобности глубокой, — вымолвил Йода.
— Дык, ну это, — нашëл что ответить Петрович и попятился.
Йода прошмыгнул в квартиру.
— За линией мира утеряно солнце, и ночи уныние нас настигло, — продолжил магистр.
— Ну ведь да. Поздно, — согласился Петрович.
— Знаю, Петрович, что взор свой в неправду не прячешь ты, будто трусливый страус, — заявил Йода, ковыляя по квартире и осматриваясь. — Братству мужскому, Петрович, ты верен, однако.
— О чëм ты толкуешь мне, Йода почтенный? — от волнения Петрович сам перешëл на несвойственный ему возвышенный тон.
Зеленоватый мужик продолжал:
— Жизнь наша — словно песчинка на дальних краях океана. Будто бы искорка малая в огненных языках. Знать не дано человеку о назначении своëм и природе. А и такое бывает, что трубы горят в человеке. Сил нету больше и мочи, ну дай же, Петрович, мне выпить!
— Йода, но как же ты можешь такое?
— Да не Йода я, а сосед твой с первого этажа, Фëдор! В магазине всë, кирдык, водки не купить! Выручай, брат, не могу, трубы горят! Ибо! — трепетно произнëс мужик в ризе.
Петрович помотал головой, присмотрелся — ну точно, это сосед Фëдор, зелëный от перепоя, в мятом халате и тапках на босу волосату ногу.
Петрович приоткрыл холодильник. В глубине его соблазнительно блеснула холодненькая, исполненная окончательного смысла бутылка водки. Петрович затомился.
А сосед Фëдор, не спрашивая, схватил бутылку и прижал к груди. Потом позеленел аж до малинового цвета и выхватил световой меч. Воздух на кухне завибрировал, затрещал электрическими разрядами.
— Йеху-у-у! — крикнул Фëдор и, совершив кульбит, со свистом и бутылкой в руке вылетел в форточку.
Сердце у Петровича забилось часто и неровно, в голове колоколом загудела кровь, и
— Выпить! Выпить! — воскликнул Петрович и распахнул холодильник.
А там
— Урра-ахша-а! — утробно прорычал Петрович и активировал кроваво-красный световой меч. Разрубив пополам невиноватый холодильник, он выдул две струи горячего пара из мембран глухого чëрного шлема и, взмахивая полами тяжëлого до пят плаща, стуча сапогами на титановых подошвах, проломил стену и рванул в открытый космос — за
+ + +
Скоблю сковородку слева направо.
Потом еë драю справа налево.
Слушай, ты, долбаный дао,
Дай мне просто еë очистить,
Небесную сковородку эту.
От звëзд потухших, налипших.

Боль
После полуночи Иван просыпался от странной влекущей боли.
Боль начиналась в Ивановом сердце, тяжелела, жгла, потом опускалась вниз, и всë Иваново тело горело и томилось. Потом боль сжималась острым комком и прокатывалась по Иванову телу вверх, застревала где-то в горле, перемещалась в голову и сжимала глаза. Постепенно боль стихала, умягчалась, покалывала и даже странным образом становилась Ивану приятной. После Иван незаметно засыпал, а наутро просыпался здоровым и одиноким.
Сначала Иван обижался на боль и не хотел еë, затем привык к ней, а потом даже стал ждать еë по ночам. Удивляло Ивана то, что у него никогда не получалось проводить боль. Он всегда засыпал раньше еë ухода.
Но однажды Иван всë же пересилил дремоту и дождался ухода боли. Он лежал тихо с широко открытыми глазами в тëмной комнате и вдруг увидел, как от него отнимается что-то светлое, воздушное, похожее на привидение.
Это светлое, отдаляясь, стало обретать очертания стройной женской фигуры, и Иван, не утерпев, прошептал:
— Боль, обернись!
Боль замерла на месте. Помедлив, она обернулась и сделала шаг к Ивану. И он увидел перед собой ту самую совершенную женскую красоту без конкретных черт, которую каждый мужчина мысленно рисует перед своим взором.
Боль смотрела на Ивана ясным принимающим взглядом.
— Боль, вернись ко мне! — воскликнул Иван.
У боли испуганно исказилось лицо, и глаза еë наполнились непонятной Ивану мукой.
— Да, приди, — попросил Иван.
Боль присела на постель, а потом прилегла к Ивану и крепко обняла его. Иван вспыхнул было от счастья, а потом закричал от невыносимой боли, которая стала его телом и душой, и потерял сознание.
Утром Иван проснулся как ни в чëм не бывало, здоровый и одинокий. Но он всë помнил и весь день провëл в лихорадочном влюблëнном ожидании ночи.
Ночью боль не пришла к Ивану. И больше никогда не пришла.
+ + +
Сыграй со мной в ножички, в ножички.
Не буду, мне страшно, страшно.
Я боюсь попасть тебе в сердце.
Ты не бойся, моя очередь первая.
Не промажу, не бойся, не бойся.
И тебе не придëтся, придëтся
Кидать в меня ножичек, если
Я
Домино
Петрович достал из шкафа коробку с домино, высыпал на стол и выставил костяшки одну за другой. Затем толкнул ближайшую костяшку. Она повалилась и повалила за собой следующую, та повалила за собой третью, и так свалилась вся очередь.
— Эх ведь! — промолвил Петрович и выпил.
Потом он заново аккуратно выстроил цепочку и, помедлив, снова свалил первую костяшку. Она ожидаемо повалила вторую, та ожидаемо повалила третью, и таким образом совершенно ожидаемо снова повалились все.
— Ну что же так! — воскликнул Петрович и выпил во второй раз.
Затем Петрович в третий раз соорудил конструкцию. Поднялся, походил по кухне, посмотрел в окно, присел — и осторожно, словно боясь кого-то или что-то спугнуть, подтолкнул начальную костяшку.
Она упала, за ней упала другая, за ней третья, и так далее и далее — но вдруг! — последняя каким-то чудом осталась стоять на месте.
— Так вот же! — провозгласил Петрович и с некоторым торжественным чувством выпил в третий раз.
+ + +
Много на свете московских кремлей
И немосковских — тоже.
Жить стало лучше и веселей.
Кто не согласен — по роже!
Снег лежит на земле сто лет.
Звëзды в ночи не живы.
В тундре за Оймяконом стоит
Кремль под названьем Главпиво.
Главная башня огнями горит.
Грохочут полы весельем.
Призраком под потолком парит
Завтрашнее похмелье.
Пить стало лучше и веселей!
Водку мешаем с кровью!
Нет коктейля пьяней и злей,
До мути в глазах коровьей.
А в подземелье, не взаперти
Дует замëрзшее пиво
И в ледяной бежит в сортир
Дежурный по башне терпила.

Свет
Ночью Иван пошëл на кухню попить воды.
Нащупал рукой выключатель. Щелк — и зажëгся жëлтый электрический свет. Но потом лампочка трынкнула и погасла.
Иван нащупал дверную ручку и взялся за неë — а ручка вдруг засветилась тонким белым светом.
Иван осторожно отнял руку. Вокруг всë стало видно. Иван взял стакан — и свет шариком перелетел на него.
Иван чуть было не выронил стакан. Но огонь не обжигал. Стакан светил, как лампа, и согревал руку.
Иван открыл кран и набрал воды немного больше половины стакана. И светящийся шарик перебрался с его стенок в воду.
Иван начал привыкать к этому свету. Помедлив, он осторожно выпил воду и почувствовал, что шарик прыгнул внутрь него самого.
В Ивановом желудке стало тепло и хорошо, и Иван изнутри засветился мягким телесным светом. Он оглядел себя сверху и сквозь кожу увидел своë бьющееся сердце.
Он на цыпочках вернулся в спальню, тихонько прилëг и заснул совершенно счастливый.
А свет, помедлив, покинул Ивана, поднялся к потолку и не сразу ушел в форточку.
+ + +
Подними руку. Забудь о пальцах.
Выправи в воздухе тихой ладонью
Те самые зыбкие, явные только
Случайным твоим глазам ступени.
Это твои однодневные жизни.
Это твои некстати ответы.
Это попытки пожать плечами.
Куда-то уйти и прийти зачем-то.
Лестница верит твоему взгляду.
Подари ей лесное зелëное тело.
Прильнëт к зелени чëрная радость.
Не станет места белому горю.
Белое, чëрное, зелëное, живое.
Радуйся, кланяются тебе травы.
Зелëное, чëрное, не смерть, ты понял.
Ты почти добрался.
Мяч
Учитель географии Константин Евгеньевич утром пил чай с бутербродом, гладил кота, одевался в костюм, брал портфель с учебником и тетрадями и отправлялся в школу. В четыре часа дня он возвращался, переодевался в домашнее, пил чай, проверял тетради, ужинал, ещë раз пил чай, смотрел телевизор, гладил кота и ложился спать.
На следующий день Константин Евгеньевич, поднявшись, пил чай с бутербродом, одевался в костюм, гладил кота, брал портфель с учебником и тетрадями и отправлялся в школу. В четыре часа дня он возвращался, переодевался в домашнее, пил чай, проверял тетради, ужинал, снова пил чай, смотрел телевизор, гладил кота и ложился спать.
На следующий день за следующим Константин Евгеньевич с утра пил чай с бутербродом, гладил кота, одевался в костюм, брал портфель с учебником и тетрадями и отправлялся в школу. В четыре часа дня он возвращался, переодевался в домашнее, пил чай, проверял тетради, ужинал, потом ещë пил чай, смотрел телевизор, гладил кота и ложился спать.
На самый следующий день Константин Евгеньевич поутру выпил чаю с бутербродом, погладил кота, оделся в костюм, взял портфель с учебником и тетрадями и отправился в школу. В четыре часа дня он вернулся, переоделся в домашнее, попил чаю, проверил тетради, поужинал, напоследок ещë выпил чаю, посмотрел телевизор, погладил кота и…
Бам! Дзынь! Хрясь! Бум! Тум-тум-тум.
Это ударился в окно, разбил его и запрыгал по комнате перед Константином Евгеньевичем мяч, неловко запущенный мальчишками во дворе.
+ + +
Вот как разберëшь ты старую сарайку
И чëрные разложишь по земле доски
И кривые повыдергаешь из них гвозди —
И в дом пойдëшь отдохнуть, чаю выпить.
А
Да потягивается. А ветерок ему дунет,
А дождик помочит бочок его ржавый,
А солнышко тельце погреет, посушит.
И весëлый к работе с перекуса вернëшься,
Молотком гвоздь распрямишь, ох больно,
И в свежую вобьëшь в доску по шляпку,
В темноту да в теснину. Жизнь, эх еë!

