Мечта, пропасть # Анна Гринка
Реч#порт публикует рассказ Анны Гринки.
Анна Гринка родилась в Мичуринске, жила в Геленджике, затем в Москве. Сейчас попеременно живёт в Балашихе и в Риге. Окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (дипломная работа была посвящена итальянской герметической поэзии). Поэтические тексты были опубликованы в журналах «Воздух», «Контекст», Vesalius, на сайтах TextOnly, «Цирк „Олимп”», «Лиterraтура», «Грёза», «Полутона», «Артикуляция», «Сигма» (в том числе на платформе «Ф-письмо»), Solo Neba, «КиберОрбита» и др. Также поэтические циклы с авторскими иллюстрациями появлялись на портале «Дискурс».

Мечта, пропасть
И вот ходили мы, искали космонавтов, а точнее их обломки, в последние годы много чего прилетает и валится то в лес, то в поле. Санёк меня учил: «Ищи красное, чаще всего оно на шлеме, на рукаве. Их всегда красным помечали, знак наш такой». Только находили мы с ним клочки вроде как и оттуда, но сплошь синие. Астронавты, значит. Не то, не ценится в наших краях. Один раз я не выдержал: «Да чем они отличаются-то? Всё ж один хрен — с неба попадали». Санёк тогда вытаращил глаза, он всегда глазами любил показать величину моей тупизны. «Ты скажешь! Космонавты, они что? Они летают по всему космосу. А астронавты только до звёзд каких, и потом обратно. Что тут понимать». «А космос разве сам не из звёзд состоит?» «Дурак. Космос, он вообще везде и всё несёт, как и самого себя, и Землю. И идти в него можно через обе стороны, ну ты ж в курсе, алё. А звёзды только во внешней стороне, так что астронавты уходят только в видимую часть света, космонавтам не чета. Космонавты и на Земле найдут куда уйти». «И космонавтов до неба не доносит, если уходят в космос здесь, на Земле? Ломаются прямо так, без высоты, на одной глубине?» — спросил я, стараясь не сводить взгляда от Саниных прозрачных глаз. Мне было важно, чтобы он не завирался сейчас. В другое время я терпел, но в это время я бы его стукнул, если бы видел, что брешет. И хорошо, что он ответил мне серьёзно. Да, мол, те, кто верх изучал, сверху и выпадают, будто дождём. Те же, кто шёл в другую сторону, выступают внизу, на земле, как бы росой, но в виде рванины. Вроде бы разбиваться им не пришлось, не с высоты ж летели, а кромсанные всё равно. И мяса нет, одна побитая космическая одёжка. Говорят, это воздух и земля так делят людей. Может, соревнуются, кто больше к себе прибрал. Как мы соревнуемся, кто больше нашёл вот этой шелухи.
Как земля прибирает мясо, мне было понятно. Хотя я знал, конечно, что речь не шла о почве, магме, всяком таком. Но
Сегодня я опять поднял эту тему, пока мы отдыхали под огромным жилистым дубом, попивая компот из фляжек. Ничего не могу с собой поделать, зудит то ли зависть, то ли стыд. Сам-то понимаю, что стыдиться нечего: отбор такой жёсткий, что не каждого ещё до анализов допустят. А всё равно тоскливо. Санёк мрачно выслушал моё нытьё, выстукивая пальцами по фляжке какой-то знакомый мотив. Будто саундтрек включил. И объяснять принялся как всегда язвительно, словно он режиссёр, отчитывающий актёришку за то, что тот снова забыл сценарные слова. «„Аврорка“ твоя любимая была первой экспедицией, туда брали любого добровольца, вот и весь секрет. Это потом на качество стали смотреть. Да и то зачем? Перед кем там выкаблучиваться? Нам что-то впаривают, но

«Но ты же тоже подавал заявку. И тебя обследовали», — вяло оправдывался я, зная, что всё равно этот тысячу раз уже разыгранный спектакль ни к чему внятному не приведёт. «Ну так почётно же хотя бы претендовать. И родня давила. Сестра, мол, подала, а ты чего? Сестра не прошла, и тогда я уже точно знал, что сам не пройду: гены. И подал».
А потом ему пришёл отказ от комиссии. Я помнил, с каким сожалением на лице он об этом рассказывал в тот день. Значит, кривлялся. Ну так, а кто бы не кривлялся приличия ради? Всем хотелось хотя бы издали прикоснуться к славе первых экспедиций. При этом никто толком не помнил, что же именно в них такого почётного. С нынешними тоже нечисто: ходят слухи, будто ни наши космонавты, ни их астронавты ничего не знают о деталях очередной миссии вплоть до последнего дня подготовки. Причём не факт, что им вываливают прям всё-всё даже перед отправлением. И тем не менее если отказали на этапе отбора — ты обязан для вида скорчить скорбную гримасу: как это так, я негодный, плак-плак, ну я же мечтал, ну картинки вырезал, клеил шлем из картона, ну почему, у нас все мечтают, и детства ни у кого нет, одна мечта. Одна на всех жирная мечта. Какое может быть другое, какие там
Потом как-то незаметно вырастаешь в периодах затишья, мечта редеет, но менее настырной не становится. Только возраст допуска к отбору расставляет всё по местам: где мечта, а где рутина. Да и шматки «вернувшихся» на землицу навтов внушают всё больше сомнений. С другой стороны — крови-мяса же нет в этих клочках, авось выживают и даже припеваючи живут. Вот так и болтаешься взрослым дядей между гнусным авосем и масляной детской мечтой. Между трусливой надеждой и беспрекословной верой. Ещё ж тосковать будешь после того, как комиссия забракует. Понимаешь, что на
Санёк прервал мои размышления резким сухим кашлем. Даже эти его приступы напоминали о моей отсталости: такой-то серьёзный взрослый кашель, с ума сойти. Я жевал травинку, пока он заливался даже уже приятно, как мне казалось. Сколько его помню, был в нём ритм, порой вырывался наружу. И вот кашлем полез года два назад, с тех пор регулярно. Санькина сестра умерла от похожей болезни, но за него самого я
Тут Санька перестал так же внезапно, как начал. Поднялся, отряхнул штаны, буркнул: «Пошли», и мы пошли.
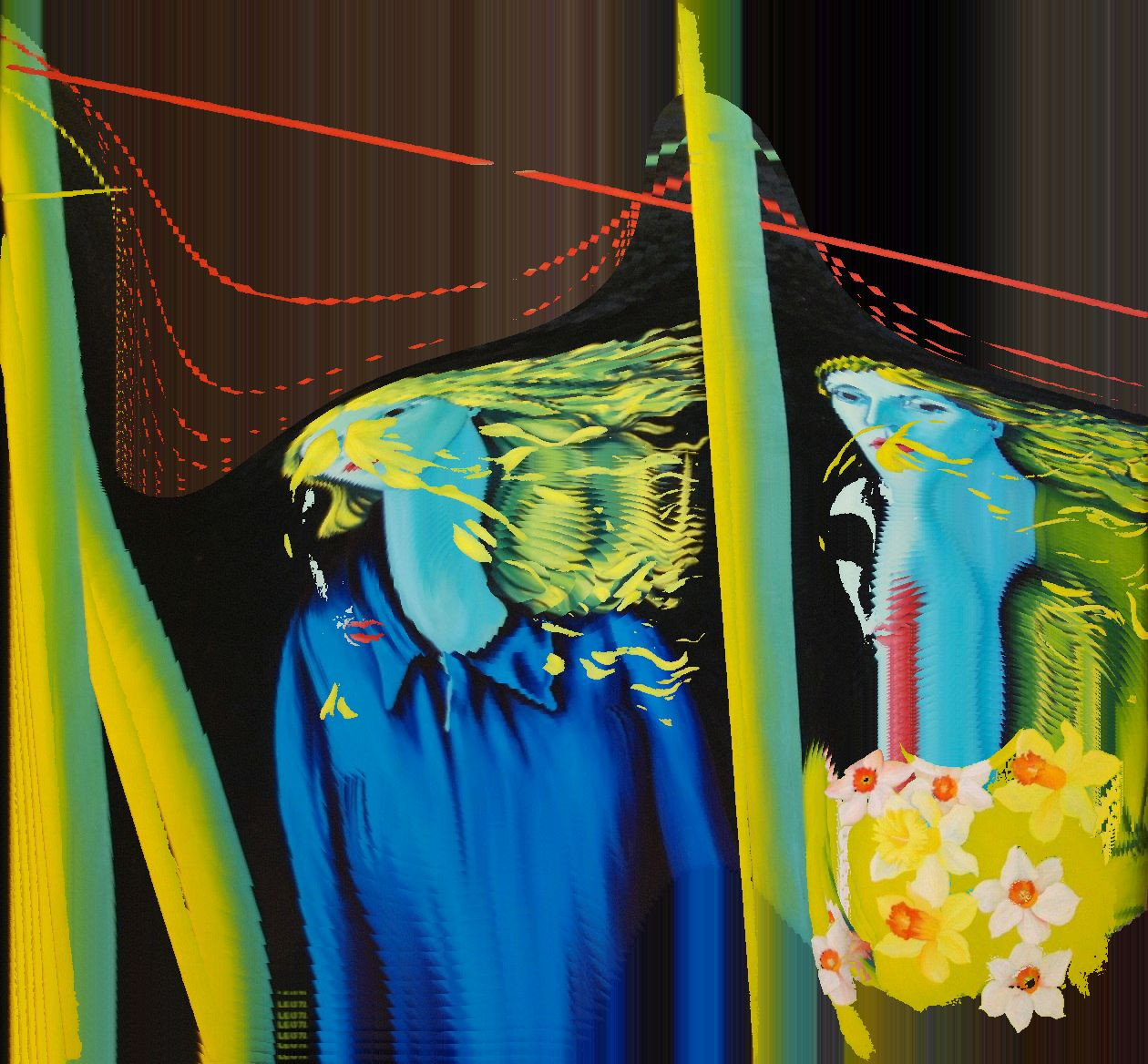
Красный клочок нашёлся под кустом дикой малины,
И такая досада вдруг меня взяла. Точнее, это детство забарахлило, разбухло от горечи и не умещалось больше в памяти. Я увидел чётко перед глазами все свои восторженные вечера в журналах и экранах, все тоскливые игры в ожидании взросления, анкетную тягомотину совершеннолетия, заброшенный институт, беготню по долгим этажам, очередь у тусклого кабинета комиссии. Выпавший из жизни год, полный обиды. Начало шатаний по пространствам, собирание коллекции «сувениров» родом из хрен пойми какой части Вселенной, а потом продажа по совету Саньки всей этой рванины на внезапно разросшемся рыночке. Такие же ушлёпки, как я, только ещё не переварившие мечту до жалкого остатка, покупали клочки путешествий, клочки связанных одной трансляцией детств. Я смотрел на них и не мог сказать: «Бросайте, ну не майтесь хуйнёй, ребята», потому что деньги — да какие и при чём тут даже деньги, — потому что в их лицах всплывало и моё детство, и я не мог им говорить издалека, говорил из близи и с ними вместе плыл в
Сжав в кулаке злосчастную нашивку, я завыл тихонечко, больше как-то внутри себя. Снаружи Санька ничего не услышал и продолжал обирать малиновый куст, повернувшись ко мне спиной. Только когда раздался странный громкий щелчок откуда-то из моего горла, Санёк, вздрогнув, обернулся. Руки затряслись, давленые ягоды высыпались в траву. Я стоял столбом, ничего не понимая, только улыбался непривычно широко, хотя глаза таращил от ужаса. Смотрел в одну точку: на зелёные ветки, старался зафиксироваться, и не получалось — мир пятном то появлялся, то исчезал, то появлялся, то исчезал. Кто-то моргал за меня, моргал мною. «Ты чего?» — расслышал я от Саньки, но не мог ответить.
«Ты чего!» — орал он уже без вопроса и бегал вокруг, то появлялся, то исчезал, то появлялся, то исчезал. А я ничего. Находился на месте ровно. Только мной мигали всё быстрее и быстрее. Санёк же теперь стоял рядом, но я не мог его понять, клочья картинки и слов доносились, ничего больше. Комок в горле, оставшийся после щелчка, пульсировал и разливался по мерцанию, укреплял его.
Вдруг картинка замерла, и я увидел Саньку неподвижным, с протянутой ко мне рукой. Кадр сменился — вот он уже коснулся моего плеча. Дальше — рука мигает в одном ритме со мной, мы потихоньку ускоряемся. Дальше — Санёк мигает весь, и мы оба мигаем. Тут он сделал шаг, хотя на самом деле не сделал, и
Когда Санька ушёл полностью и не было его больше рядом, мерцание вернулось к начальному спокойному ритму, устаканилось. Кое-где меня поотпустило, я стянул обратно дебильно улыбавшиеся губы. Пробитый солнцем куст стоял себе, не шелохнулся, и яркие точки на нём казались мне красными, очень красными, прям таких не бывает красными, колючими красными, неподвижно красными. Я уже не завыл, а захныкал, тоже тихо, но больше уже наружу, как в детстве. Это искажалось в мерцании, шло прерывистыми точками звука. Как раскатный сигнал, как долгая песенка в
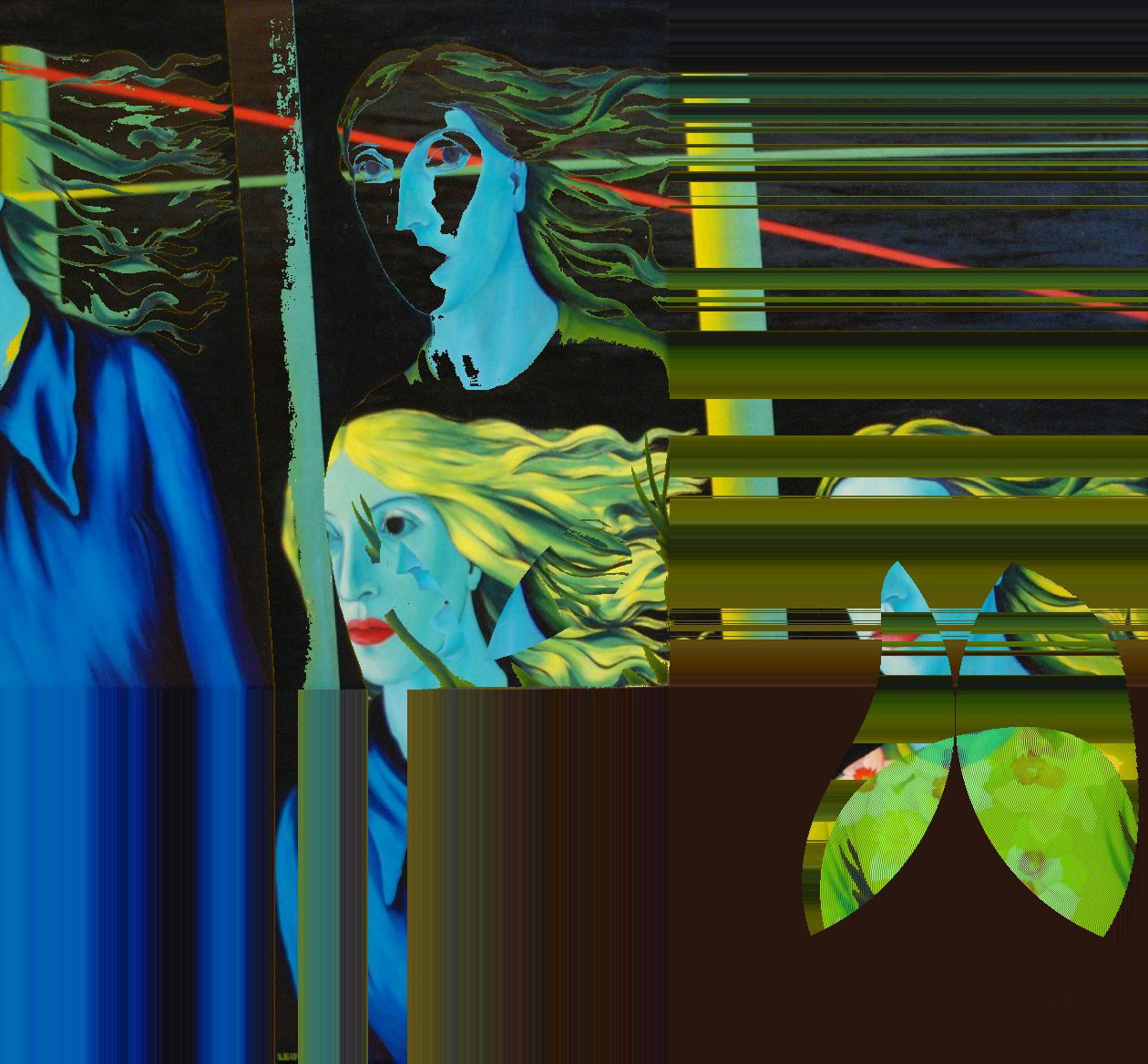
На самой середине этого начала стою открытым глазом, жду исследователей, направленную в меня экспедицию. Вроде жалко должно быть Саньку, как он там без защитного костюма, но вот мигаю и не могу ухватиться за жалость, висит она далеко-далеко вовне. Иногда прорывается ко мне какая-то нить, хриплая, как плохая трансляция, по ней еле колеблются лужицы темноты, — чем дальше, тем больше понимаю, что это погашенные мерцания прошлых лет. Голоса у них есть, но
