Стравинский. Увертюра # Александр Строганов
Реч#порт представляет вашему вниманию отрывок из нового романа Александра Строганова «Стравинский».
Александр Строганов — драматург, поэт и прозаик. Родился в 1961 году в Барнауле. Член Союза писателей, Союза литераторов России, Русского ПЕН-Центра. Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета. Литературной деятельностью занимается более 30 лет. Автор более 50 пьес, по которым поставлено более 40 спектаклей, в том числе во МХАТ им. А.П. Чехова, Александринском театре, Театральном центре Ю. О'Нила, Театре Ю (США), Театре на Целетной (Чехия) и других.
Среди изданных книг: сборник поэзии «Мелос» (Барнаул, 1980); книги «Excentrique» (Барнаул, 1993); «Книга стихов и пьес» (Москва, 2002); «Каденции» (Барнаул, 2004); «Иерихон» (Барнаул, 2007); «The Jester’s Chess» (Samara-Runcorn, 2007); «Four оn the very top of the tower of Babel» (Samara-Runcorn, 2008); «Selected Plays» (Authorhouse Publishing, Великобритания, 2011); «Удильщики милостью Божьей» (Za-za Verlag, Дюссельдорф, Германия, 2012); «Орнитология» (Za-za Verlag, Дюссельдорф, Германия, 2013); «Пианизм» (Za-za Verlag, Дюссельдорф, Германия, 2013); роман «Суглоб» (Za-za Verlag, Дюссельдорф, Германия, 2013); роман «Купание Ягнатьева» (Za-za Verlag, Дюссельдорф, Германия, 2016).

СТРАВИНСКИЙ
Следует признать, мы боле не в силах
удерживать нити несуществующих событий.
Стравинский И.И.
Увертюра
Трогательные, беззащитные, доверчивые люди: лесорубы, лимитчики, буфетчицы, лавочники, кашевары, охотники, кавалеры, красавчики, уродцы, герои, лодочники, недоумки, певуны, мясники, лилипуты, соседи, воры, иностранцы, пачкуны, работяги, истерики, носильщики, маньяки, историки, увальни, императоры, кликуши, носачи, лицедеи, слепни, бродяги, трутни, краснобаи, шоферы, коновалы, краснодеревщики, пианисты, орнитологи, доктора, энтомологи, писаки, сутяги, ходоки, полярники, саперы, скалолазы, аферисты, Стравинский и летчики. Все представлены в большой невидимой книге без начала и конца. Имя той книге «Великая мировая голубятня».
Кто-то еë напишет?
Кто-кто? Да никто.
Самих голубей, следует заметить, с каждым годом становится всë меньше.
Прав был граф Лев Николаевич Толстой, когда произвëл девственную простоту в ранг величайших истин. Часто в
Я бы ещë добавил случайные предметы и чрезвычайные происшествия.
Так что путеводная звезда для удачливого сочинителя — не гремучий сюжет, не многострадальная идея, не багровое племя размышлений, но
Словом, всякая чепуха и нелепица. Или венок нелепиц по аналогии с сонетами.
Сморозил, брякнул, брякнулся, руку распорол, глядишь — поэма созрела.
Или симфония. Или мозаика. Или «Великая мировая голубятня».
А лучше «Стравинский».
«Великую мировую голубятню» не потянуть. Никому из смертных не потянуть. Ибо по большому счëту мы ничего о себе не знаем. И не узнаем никогда.
Да, чепуха — знак свыше. Всякому ваянию и зодчеству великое подспорье.
И вообще великое подспорье.
Знаки свыше — большая редкость. Может быть, конечно, и не редкость, но не всяк умеет их распознать. Большинство ведь как думает? Происшествие и происшествие. Ну или ужасное происшествие, чудовищное происшествие. Так думают.
Не более того.
Вот и блуждаем в потëмках тысячелетиями.
Что такое чрезвычайное происшествие?
Например, вас сбивает машина, или, ещë лучше — удар током, вольтова дуга.
Конечно, кошмар. Возможно, с так называемым смертельным исходом.
Иногда обходится, удаëтся отделаться, как говорят, легким испугом.
Так или иначе, вся последующая жизнь и потерпевшего, и его ближайшего окружения — приложение к тому кошмару.
А если это был знак? Побудительный сигнал и главный ответ на все вопросы? Или просто главный ответ безо всех этих наших нудных и однообразных вопросов длиною в жизнь?
Или первый аккорд будущей симфонии?
Поскольку дар небесный в виде чрезвычайных происшествий, как уже было замечено, — большая редкость, ориентироваться писателю, художнику, композитору, как указал граф Лев Николаевич Толстой, всë же стоит на обыденные нехитрые мысли, которые, в отличие от, скажем, шаровых молний, вьются подле нас, точно осы вкруг омшаника.
Осы.
Не случайно Аристофан воспел этих удивительных насекомых. Воспел ос и лягушек. Аристофановым лягушкам хочу посвятить отдельную главу. Уверяю вас, они того заслуживают.
Как выглядят незатейливые мысли?
Вот вам пример — чепуха, которая посетила меня аккурат перед тем, как я принялся за поэму… Условно — поэму, а так, кто его знает, что получится. Может быть, роман. А, может статься, вообще что-нибудь этакое… эпистола, письмо, например.
Вам, дорогие, читатели.
Письма люблю, потому и вспомнил про эпистолу. И слово хорошее — ëмкое, не затëртое. Эпистола.
Очень красиво!
Итак. Дорогие читатели! Пишет вам…
Нет.
Конечно, никакая это будет не эпистола. Может быть, вообще ничего не будет. Хотя что-нибудь всë равно будет, раз уж гвоздь да дуга вспомнились.

Письма в прежние времена хранили бережно, бечëвочкой перевязывали, а то ещë и в платочек, бывало, укутают. Чаще в белый или кремовый. А вот клетчатыми платочками в таких случаях, как правило, не пользовались. Клетчатыми платочками носы обслуживали. И носили в карманах брюк. А белые, кремовые, реже синие и красные — для нагрудного кармана пиджака или вот стопку писем запеленать. Пеленали письма. Письма, фотографии, реликвии семейные. От сырости берегли и поросячьего глаза.
Свинок всегда любил. Трогательные доверчивые животные.
Сдаëтся мне, пятачки их — не просто так.
Однажды услышал, уж не помню от кого, такое детское, смешное на первый взгляд… Розетки — никакие не розетки, а поросячьи пятачки.
Получается, там, за стеной свинки.
Как? Каким образом? Что же, их замуровали?
Да только ли свинки? А стоны водопроводных труб, эти утробные гулкие стоны? Быть может, там, за стеной, и слоны, и мулы, и марабу, и утконосы разные, и саванна, и тропики, и драконы, и снежные люди, и новые люди, и древние… Гиперборея с гипербореями, и Атлантида с атлантами, всë такое, чего мы не видели никогда, но без чего жить не можем. Вынь да положь нам всë такое.
И вынут, и положат, придëт час.
Мы думаем о них, они тоскуют по нам.
Свинки проще прочих и вообще родня, вот и высунули свои пятачки, нарушив условности.
Нет, не может быть. Конечно, это не настоящие свинки.
Чушь, одним словом. Образ, хохма.
Но не смешно. Даже как-то не по себе.
Казалось бы, безделица, услышал и забыл. Однако пристала, пристыла, не хочет отпускать. Теперь каждый раз, когда розетку вижу, волнуюсь.
Чушь, конечно, но…
Знаете, как бы то ни было, розетки — не просто так.
Пятачки — не просто так, и розетки — не просто так.
Да. С такими мыслями далеко уйти можно. И спасатели не помогут.
С образами и хохмами надобно быть очень осторожным. Всë так сплетено, переплетено. Замысел непостижимый.
И так называемые случайности — никакие не случайности. Не бывает случайностей.
Научным языком, а я не брезгую научной литературой, так называемые случайности — не что иное, как экзистенциальный приëм, способ утешения.
Зиккурат. Уловка свыше.
Научные труды, поверьте, могут быть не менее увлекательным чтением, чем, скажем, авантюрные романы. Главное — читать, не останавливаясь. Зажмуриться и лечь на спину. На спине и не умеющий плавать человек навряд ли утонет.
Возьмите хотя бы Канта. Для облегчения восприятия, перед тем как погрузиться в его труды, можно немного выпить. Если на дворе январь — неплохо выпить глинтвейна.
Но и водка бывает хороша, когда за окном мороз.
Свинкам хочу посвятить отдельную главу. Может быть, там, где понадобится развить тему близнецов. Мы же с ними, в сущности, близнецы. Если без ханжества.

Но вернëмся к чепухе.
Итак, мысль, посетившая меня аккурат перед тем, как я принялся за роман. То есть совсем недавно.
Озарение, так сказать.
Когда бы ни очевидная еë глупость, можно было бы и озарением назвать.
А разве озарения не могут быть глупыми? Очень даже.
Ну да ладно. Итак, мысль.
Если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Каково?
Или.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, композитором Стравинским. Лет на сто раньше.
Или агностиком. Сегодня.
Или птицей. Всегда. Они ведь, птицы, в этом их параллельном мире, кто их знает, что они там?
Уже, как видите, череда мыслей. Вышеупомянутый венок.
Иногда мысли обрываются. Точно электричество отключили.
Иногда это к лучшему. Как правило, к лучшему.
Порой самому остановиться чрезвычайно трудно. Просто невозможно остановиться бывает порой.
Как занимается поэма или симфония? Или роман. Или роман-симфония?
Покажу на примере грядущего «Стравинского».
Я на даче. Спешно, зачем, уже не помню, взбираюсь на второй этаж. На ходу клюю вишни, они у меня в лоточке на тесëмочках на шее. В голове жужжит помимо воли, важно, что помимо воли — если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Это ещë не о Стравинском. Это вообще ни о чëм. Проходная никчëмная мысль.
А нужно было сразу сосредоточиться. Это я теперь понимаю, а тогда…
Ладно, не будем задерживаться. В это мгновение нога соскальзывает со ступеньки.
Косточка немедленно залетает в дыхательное горло. Закашливаюсь. Кубарем качусь с лестницы. Падаю навзничь.
Куда, как вы думаете?
Верно, на тот самый ржавый гвоздь из детства, о котором я и думать забыл.
Гвоздь же, как выяснилось, помнил меня все эти годы.
Изображать из себя героя не стану — первоначально испугался очень. Очень.
Неприятные детали испуга описывать не хочу. Современный читатель живо представит себе всë то, перед чем робеет и чего стыдится читатель, застрявший во мхах традиции.
Но, рано или поздно, испуг проходит.
Лежу себе цел-невредим.
Главное, что цел и невредим, а мокрые штаны, проступившая седина и прочие детали, которые описывать не хочу, — не так важно.
Лежу.
Даже некоторую истому отмечаю, лëгкое кружение, не поверите, негу отмечаю.
Лежу.
Глупые мысли постепенно возвращаются на круги своя.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, композитором Стравинским. Лет на сто раньше. Или агностиком. Сегодня. Или птицей. Всегда.
Ну вот вам и Стравинский.
Стравинского вспомнил походя, даже не задумался, откуда он явился, зачем?
Продолжаю лежать. Истома.
И тут взгляд задерживается на мëртвой лампочке под потолком. Неспешный рой праздных рассуждений, брызнув, уносится вспять. Откуда ни возьмись слепящей каплей идея — надо бы лампочку поменять.
И что за срочность? Перегорела и перегорела. Уже неделю как.
Перегорела, стало быть, пора настала, судьба такая.
Должен признаться, в быту я крайне ленив.
Опять же прекрасная погода. Осы вьются подле омшаника. Лягушки трещат в лопухах. Тут-то бы и расстаться с этой треклятой лампочкой, повернуться на бок. Так нет же. Ноги несут. Сами понесли. И вот уже я, чертыхаясь, как положено, взбираюсь в этот раз на стремянку. А в голове, как заигранная пластинка, всë та же песенка. Если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Вот о чëм я думаю частенько, когда мне на глаза попадается портрет Стравинского, — как здорово, что в нëм самом бекар и диссонанс. Иначе можно было бы усомниться в его подлинности.
Берусь за патрон. Даже не могу с уверенностью утверждать, успел ли прикоснуться. Не исключено, что только представил себе, как это я прикоснусь, и тотчас — бах!
Искры. Следом тьма.
Трах-бах! Вольтова дуга.
Тотчас тьма.
И тишина. Немыслимая тишина.
Всë. Поэма готова!
Посмертная.
Шучу.
Пошутил.
А теперь уже серьëзно — поэма готова. Явлена мне в мельчайших подробностях, в цвете, со всеми тонами и полутонами, запахами, временами года, героями и случайными людьми, моментальная фотография с высоты птичьего полëта.
Непостижимо, но факт.
Нет, мы себе не принадлежим.
Всë прописано, предписано, расписано и распределено.
Кому, как говорится, Стравинский, кому — дырка в черепе.
А так, логически, всë очень даже выстраивается. Два чрезвычайных происшествия одно за другим. Что это как не знак свыше? Череда знаков. Венок, по аналогии с сонетами. Да ещë на фоне никчëмных мыслей. Как тут поэме было не случиться? Или роману?… Поэма, роман, симфония… Если хватит терпения прочесть — решите сами. Я сейчас слишком взволнован, чтобы думать о таких мелочах.
После вольтовой-то дуги…
А когда бы ещë и под машину попал — это уж совсем Везувий был бы!
Но мне и шаровой молнии достаточно.

Машины, стиральные машины, швейные машины, шагающие стулья, летающие этажерки, летающие тарелки, эскалаторы, двигатели внутреннего сгорания, лебëдки, насосы, роботы, говорящие роботы, механическое пианино, счëтчики, счëтчики Гейгера, сам Гейгер, велосипеды, мопеды, карусели, часы, карманные часы, напольные часы, турбины, вращающиеся бобины, механические цикады, часы с кукушкой, часы с инкрустацией, табакерки с чертями, спирали, канатно-висельные дороги, помпы, насосы, гидроэлектростанции, дизель-электроходы и прочие необъяснимые механизмы — не моë. Не люблю. Никогда не любил.
Я чистым электричеством восхищаюсь.
Электричество — диво дивное, что бы там ни говорили.
Обожаю вопросы, связанные с электричеством. Люблю задавать их умникам, всезнайкам. Именно умникам и всезнайкам.
Что с простым человеком говорить? Простой человек всë чувствует.
Безошибочно.
Простого человека не проведëшь, он и шишек набил, и в карманах у него зола. Улыбнëтся, промолчит. Себя экономит.
Умники — другое дело. В них верховенство волнуется, дрожит.
И кузнечики в глазах.
Люблю, например, спросить всезнайку: — И что это такое, электричество?
Управляемый поток электронов, — отвечает. А про себя думает, — До чего же дурацкий вопрос, знать, собеседник-то дурень стоеросовый.
Продолжаю заманивать в капкан, — А электроны?
— А что, электроны?
— Вот именно, что? Кто это и что это — электроны? Как их осознать и принять всей душой? Бегут, говорите? Каким образом? Куда, зачем? Должны же они иметь какую-то цель? — передышки не даю. — Облегчить страдания человечества? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Есть ли у них имена? И, наконец, почему, собственно, лампочка-то загорается?…
И вот в этот момент, как раз на этом вопросе, вдруг откуда ни возьмись — бах!
Искра, вольтова дуга, тьма! Всë!
Ответа уже не слышу. Да и нет ответа. Как можно отвечать, когда собеседник твой искрит и обугливается прямо на глазах?
Выдумка, конечно, но, согласитесь, явление вольтовой дуги в данном случае было бы весьма уместным и эффектным. И весьма поучительным кое для кого.
Знаете, удар молнии невольно заставляет охлынуть, задуматься, пересмотреть.
Знаете, что такое вольтова дуга?
Не приведи Господи узнать! Взрыв почище Хиросимы.
Дыхание перехватывает, аорта на пределе, сердце вот-вот вырвется на волю, предсмертный восторг!
В моëм случае — вдохновение.
Бах! Всë! Симфония готова.
Видите, как получается?
Другие сочинители на симфонию годы, десятилетия тратят.
А как страдают при этом?! Что ты!
Просто почитайте доступные биографии. Воистину труженики. Страстотерпцы. Без иронии. Мозолистые души.
А почему?
Их током не било. И вся недолга.
Вызывает сомнения?
А вы вот на что обратите своë драгоценное внимание. Одним из наиболее действенных и успешных методов лечения в психиатрии является электросудорожная терапия. С чего бы это?
А также Теслу вспомните и его Тунгусский метеорит.
А Ленин? Думаете, вождь затевал свою электрификацию, чтобы в медвежьих углах лампочки Ильича зажигали? Да он гениальные мысли таким образом культивировал.
Видите, как получается?
Кто такие электроны и что такое ток, я уже не говорю о вдохновении, — поверьте, никто не знает. И не узнает никогда. Потому что все эти знания изначально принимаются как данность.
И теория вероятности, и «дважды два».
Почему четыре? А потому.
Так принято.
Беспризорник Эйнштейн придумал.
Числопас. Ему бы синяк под глазом. Или уж нарукавники.
Амбивалентность, мать еë.
Хиросима — тоже его рук дело, если копнуть. Нагасаки как-то меньше упоминают.
Беспризорник, числопас. Нацарапал спросонья невесть что, а нам теперь расхлëбывать.
Дважды два — четыре, видишь ли. А то, что он язык при этом показал, почему-то не учитывается.
А вот вам — новая идея, так же откуда ни возьмись, и так же помимо воли.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, егозой Эйнштейном.
Хочется немедленно записать.
Хочется — перехочется.
Записал бы и… одним росчерком пера жизнь под откос пустил бы. Или взмыл бы небесным змеем.
Нужно уметь вовремя остановиться. Тут бы со Стравинским справиться. Какой ещë Эйнштейн?!
Удержался. Молодец.
Шучу.
Люблю лунной ночью посмеяться над собой.
Днëм тоже, бывает, грешу — смеюсь, как полоумный.
Всякое писание — рискованное предприятие, доложу я вам.
Вот говорят — ведите дневники, ведите дневники, ведите дневники…
Не ведите.
По моему опыту, даты и дневники — галька в сапогах.
Или гравий.
Или в штиблетах, если вы отдыхаете где-нибудь на море, в Абхазии, например.
Обожаю Абхазию. Воистину рай земной.
Я ни даты рождения, ни даты смерти своей не помню. Потому шагаю налегке.
Или кружу со своими турманами над своей голубятней.
Видите, как получается?
Так что, изволите видеть, поэма моя, роман мой, или эпистола, или репортаж со дна сознания с Абхазией, собаками, турманами, иллюзиями и прибаутками готов. А начиналось всë, если помните, очень просто — поперхнулся вишнëвой косточкой, слетел с лестницы, поцарапался гвоздëм и так далее. Так что, по аналогии с известным анекдотом, простота лучше воровства.
Граф Толстой, с которого я, собственно, и начал своë повествование, это хорошо знал. И одевался соответствующим образом, напоминая и подчëркивая.
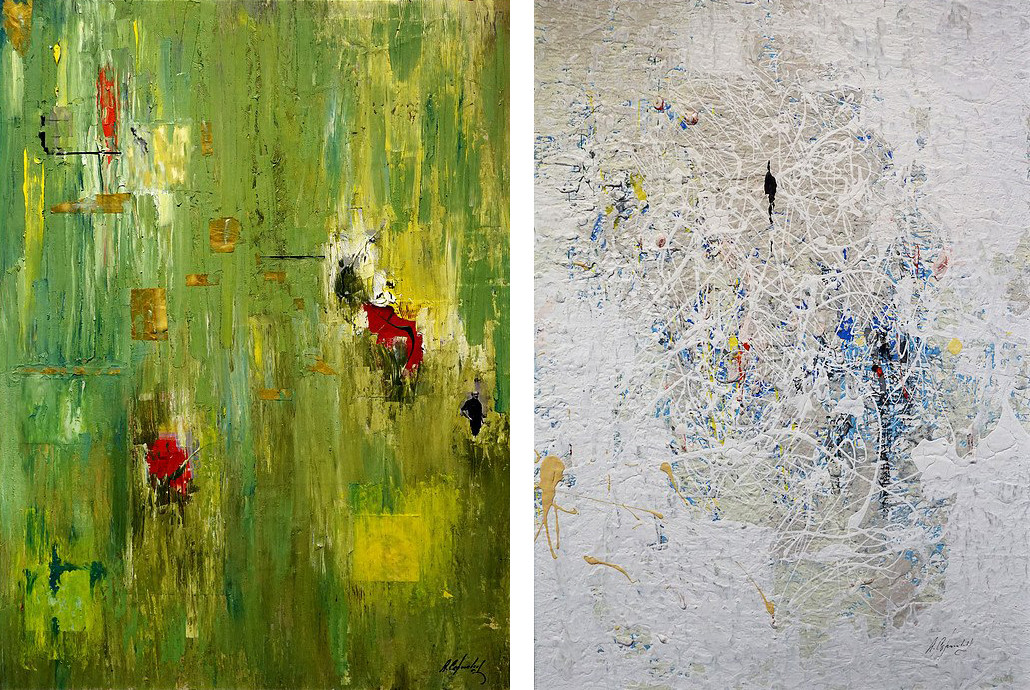
По первой и главной профессии я — психиатр. Вероятно, вы уже догадались.
Вообще, психиатр — не профессия. Картонная коробка. Картонный домик.
В домике том тайн и откровений много больше, чем существует в природе.
Людям без слуха в таком домике не выжить. Без слуха и страсти к письменам.
Писать можно прямо на стенках. Разумеется, изнутри.
Или в уме.
Не имеет значения — окошек-то нет.
Моя мысль может показаться вам парадоксальной, однако именно и только в сумасшедшем доме царит подлинная свобода.
Вообще, доктора и пациенты живут здесь одной большой семьëй. Со временем и во внешности их начинают просматриваться общие черты. Не до такой степени, что у Стравинских, но всë же.
Так, ради любопытства, как-нибудь обратитесь к галерее знаменитых психиатров. Обратите внимание на уши, глаза…
Поскольку мы носим халаты, спутать нас с больными не представляется возможным. Разве если кто-то захочет пошутить?
Шутки в нашей среде приветствуются. Шутки, розыгрыши, духовные забавы и всякого рода писание.
Так что иногда пишу. Чаще всего для себя.
Лукавлю.
Иногда лукавлю. Для себя.
Но чаще пишу.
Если не сплю — пишу.
Вот прямо сейчас пишу.
Можно проследить за ходом моих мыслей. Если интересно, конечно.
Такая игра — вы следите за моей мыслью, я слежу за вами, за тем, как вы следите за моей мыслью, на самом деле, вместе читаем роман. Вы читаете, я шевелю губами.
Да, следует признать, сегодня важнейшей из всех наук для нас является психиатрия. Мысль не совсем моя. Точнее, мысль — моя, но по форме напоминает другую мысль другого человека. Наверняка догадались, о ком идëт речь.
Сымитировав таким образом своеобразную вариацию на тему непреходящей злободневности, я попытался возвести содержание универсальной идеи в абсолют.
Надеюсь, содержание не вызывает у вас сомнений?
Возьмите, к примеру, то и дело вспыхивающее на наших глазах безумие государств. Не только безусловно одушевлëнный человек, но также условно одушевлëнный социум, и, если вспомнить Помпею или Дамхан, экзистенциально одушевлëнная эйкумена, а также необитаемая часть мира и сам космос нуждаются в том числе, и в первую очередь, в наблюдении психиатра.
По крайней мере, в наблюдении.
Согласен, мысль попахивает атеизмом, потому во всяком содержательном человеке обязана вызвать отторжение. Однако же возникла, и не на пустом месте. Стало быть, была допущена к озвучению. В качестве штриха. Или аккорда, если угодно. Вероятнее всего — как некое предупреждение. Ну что же, пусть покуда остаëтся в нотной тетради черновиком.
Коробка может иметь любые размеры. Хоть Вавилонской башни, хоть спичечного коробка. Главное — не отвлекаться.
Теперь прошу обратить внимание на эпиграф.
Изволите видеть, инициалы Стравинского И. И. а не И. Ф. не опечатка. Речь в романе пойдëт не о композиторе. Точнее, не только о композиторе. Хотя композитор выступит, безусловно. Было бы, согласитесь, чудачеством с
Чудачеств бояться не нужно. Бояться следует не чудачеств.
Так что композитор Стравинский И. Ф. выступит непременно. И не только в качестве композитора, а также, в качестве своеобразного шелкопряда, связующего звена, путеводной звезды и, не пугайтесь, марева.
Вы обязательно поймëте, что имел в виду автор, выдохнете с облегчением и даже обрадуетесь. Чуть позже.
Не исключаю катарсис. Случиться катарсис может где угодно и когда угодно. Но мне отчего-то кажется, что ключевым фрагментом станет одна, прямо скажем, шокирующая каденция, где вступают колокольчики. Сами поймëте, когда услышите.
Катарсис, например, можно испытать, когда сосед включает свою дрель.
Так что не обязательно «Болеро».
Участие Равеля в нашем путешествии не предполагается.
Может быть, и напрасно.
Фрагменты помечены цифрами. Заголовки тоже присутствуют, чтобы не воспарить над писанием безвозвратно, но цифры — главное. Так структурируют партитуры. Так что перед вами скорее не текст, а партитура. Попытка симфонии.
Уже прозвучало — черновики. Лично мне черновики нравятся больше чистовиков. Всегда можно что-то исправить, изменить. Нет этого щемящего ощущения обречëнности.
Обречëнности и в жизни, согласитесь, хватает. В последнее время — в особенности.
Живëм-то, если вдуматься, очень недолго. Несколько тактов в масштабах симфонии. Хотя симфония — это не то, что написал композитор, а то, что мы слышим.
На самом деле мои герои молчат. Нам только кажется, что мы улавливаем их голоса. Это не голоса — звуки. Точнее, следы от звуков, тени звуков.
Про себя живут мои герои. А наяву отсутствуют.
И нечему тут удивляться. Разве не поëм мы песен про себя? Не вступаем в мысленные перепалки? Не сочиняем невидимые сочинения? И поступки совершаем героические. Про себя.
Преимущественно героические.
Если быть по-настоящему справедливым, а это значит наряду с внешними событиями принимать во внимание события внутренние, включая мечты и сновидения, — история человечества совсем не то, чему нас учат, и сами мы — нечто совсем иное.
Всякий звук — только оболочка звука, а всякая реальность, какой мы привыкли еë представлять, — лишь оболочка реальности.
Сюжет, содержание, мораль не предполагаются.
Предполагаются штрихи, акценты, синкопы… что там ещë? блики, обертоны… то, что в итоге и формирует гармонию.
Или дисгармонию.
Как вам заблагорассудится.
Тишину, бездну можно трактовать как угодно.
Свобода. Пустота. Ничто.
Может возникнуть закономерный вопрос — коль скоро ничто, зачем в таком случае?
Ответ — представления не имею.
А зачем играют в шахматы, например, или ходят в горы?
Нет-нет. Всë в порядке. Сейчас поясню, о чëм речь.
Если вы ещë не догадались, именно вы, дорогие читатели — авторы романа.
Такая игра. Приглашение в новенькую голубятню. Как-то будете обустраиваться?
Не интересно разве? Самим не интересно разве?
Ещë как интересно! Это вам не карточки перебирать, не нули на палочки нанизывать.
А меня как будто нет. Я уже давно сплю с котом в головах и собаками в ногах.
Выпил чуток, да и завалился спать.
Перед сном беседуйте со своими питомцами. Возьмите за правило.
Пронзительные слова эпиграфа — плод размышлений Ивана Ильича Стравинского, не композитора, но моего коллеги, психиатра, ещë одного значительного персонажа повествования.
О психиатрах мало пишут. Полагаю, побаиваются как самих ослепших от криков да окриков докторов, так и парящей в глубине их науки их. А напрасно.
Конечно, бывали терпкие времена, что скрывать? Но окиньте взором всемирную историю. Такое, да и похуже, случалось всегда и повсюду.
И теперь случается. И будет так.
Да, тлели и тонули многие. Однако же всегда находились отдельные иные. И среди психиатров, знаете ли, тоже. А подчас и в первых рядах. Просто всë такое остаëтся за скобками, как правило.
А правила, сами знаете, не всегда справедливы. Потому-то и любим мы исключения беззаветно. Любим и приветствуем.
Всегда и повсюду.
Перед вами собрание исключений. Как говорится, по требованию времени.
По любви и по требованию времени.
По любви, не забывайте.
Заглавного героя выберете себе сами. Кандидатуры, уверяю вас, все достойные.
Возможно, выбор вашего сердца падëт вовсе не на Стравинского.
Хотя Стравинских будет даже не два, а три. Три Стравинских, с ума сойти!
Так что психиатр Стравинский очень даже уместен.
Шутка.
Я обещал вам трëх Стравинских.
С Игорем Фëдоровичем и Иваном Ильичом я вас уже познакомил в общих чертах.
Впрочем, Игоря Фëдоровича вы и без меня знали.
Без меня или вместо меня.
Шутка.
А будет ещë С.Р. Сергей Романович Стравинский, агностик*.
Откровенно говоря, при выборе заглавного героя, я бы остановился именно на нëм. Что называется вопреки.
Знаете, иногда сладко выбирать вопреки. Есть в таком выборе привкус независимости, что ли.
Скажу больше, когда бы ни Игорь Фëдорович да Иван Ильич, я бы писал исключительно о Сергее Романовиче, хотя бы потому, что он меньше других того заслуживает. Знаете, взбалмошных, непутëвых детей парадоксальным образом любят больше.
И вообще, на мой взгляд, некоторые парадоксы уже давно пора перевести в разряд закономерностей.
А может быть, все трое — один человек. Некий Стравинский. Без инициалов.
Ни живой, ни мëртвый.
Когда человек умирает, он уже не знает, жив он или мëртв.
Или когда очень испуган.
Или когда влюблëн. О себе не думает, лишь о предмете страсти своей думает.
А сам — ни жив, ни мëртв. Так и говорят, ни жив, ни мëртв.
Ещë говорят, душа в пятки ушла. Представить себе трудно, как такое может быть. Но говорим же. И часто.
На подошве кожа нежная. Даже если босиком много ходить приходится. Как Толстой или японцы.
А может быть, все персонажи — ваш покорный слуга. Только не тот, что существует в природе, ходит на работу, какие-то будние разговоры, праздничные разговоры, беседы беседует, кормит собак во дворе, на балконе курит, с голубями может заговорить. Не тот, другой. Тот, что ничего о себе не знает, и даже не догадывается.
И не нужно лишнего о себе знать, потому что понять всë равно не возможно.
В моëм повествовании всë неправда. И, если вам на глаза попадëтся легко узнаваемая деталь или история — не верьте глазам своим. Так что перед вами не автобиография. Скорее уместно было бы назвать его антибиографией, но сей неологизм мне решительно не нравится, так что забудем его как страшный сон. Мало ли какая фантазия заблудится во сне?
Осуждать спящего за его сны — последнее дело. Тем более — делать выводы.
Вывод — всегда тупик.
Тупик, битое стекло и кошачий запах — вот что такое вывод.
Теперь о сыщиках. Вам же хочется чего-нибудь такого?
Все мы, если вдуматься, сыщики. Одни женины похождения расследуют, другие — жизнь после жизни. Стравинский С. Р. расследует пустоту во всех проявлениях, Стравинский И. Ф. — тишину во всех проявлениях, Стравинский И. И. — бездну во всех проявлениях. А я, изволите видеть, всë это за ними записываю на стенках коробки.
Разумеется, изнутри.
Теперь прошу внимания. Начинаются чудеса.

Тут такая история. История, предыстория, заявка, завязка, примите, как вам заблагорассудится. Дело в том, что композитор Игорь Фëдорович и агностик Сергей Романович, притом, что не родственники, внешне однояйцевые близнецы. И не только внешне. Два, казалось бы, разных человека, но — одно и то же лицо, одна фамилия, одни и те же бесенята да петушки, если присмотреться да прислушаться.
Как такое могло случиться? Не знаю, ума не приложу, однако — факт.
Проверял. Ставлю пластинку, что-нибудь из сочинений Игоря Фëдоровича, пусть «Симфонию», «Петрушку» или «Жар-птицу», не важно, хоть псалмы, хоть другую какую симфонию, или не симфонию вовсе, не важно, пластинку заведу или, бывает, сам про себя напеваю, люблю, знаете, напевать про себя, не важно, закрою глаза, и тотчас всплывают близорукие черты Сергея Романовича… или Игоря Фëдоровича. С наскока не разберëшь, лицо-то одно. Такая вот история.
Предыстория.
К слову, бесенята да петушки тоже в известном смысле меж собой родня.
Теперь Иван Ильич. Тот, чей эпиграф. Чудеса продолжаются.
У Ивана Ильича, однофамильца вышеупомянутых Игоря Фëдоровича и Сергея Романовича, те же черты. Единственное отличие — Иван Ильич альбинос в голубых прожилках с рубиновыми бусинками-глазами.
Такое впечатление, будто перед нами три идентичных снимка, но один засвечен.
Или два чëрно-белых снимка, а один был бы цветным, но загублен при проявлении.
Невозможно белое лицо с голубыми прожилками и рубиновыми бусинками-глазами у Ивана Ильича.
Когда бы ни этот испорченный снимок, смело можно было бы объявить — вот три портрета исключительных близнецов — Игоря Фëдоровича из прошлого, Сергея Романовича из настоящего, да Ивана Ильича из будущего. Три стравинских портрета.
Удивительное дело.
Так бы и окольцевал виньетками, честное слово.
Будущее отдано Ивану Ильичу, так как он известный выдумщик и мечтатель, хоть и психиатр. Бывает, такое нафантазирует, заплетëт, что и семи умникам не разобраться. Заплетëт, сам же и попадëтся. Заглянешь к нему в кабинет в самый наплыв и разгар — нет Ивана Ильича. — Где доктор? — А кто его знает? Из помещения не выходил. Окна закрыты. Очередь томится, гудит. Нет Ивана Ильича, нет доктора, был и не стало. Да где же он? В мечтах, в будущем, в силке. Выпутается — вернëтся. Или по свалке с другом путешествует. Вернëтся, и тут же за работу.
К свалке, именуемой Баллас, вернëмся позже. Баллас — особое место, особенное!
Вернëтся, и тут же за работу. Пахарь, этого у него не отнимешь. Беседует, на вопросы отвечает. Отвечает, сам вопросы задаëт, а всë в своих мыслях.
Титанический труд — исследование бездны.
Вынужден признать, в тумане будущее наше, коль скоро символом ему Иван Ильич.
Игорь Фëдорович умер, и давно. Как говорится, давно уж на той стороне.
Или — давно уж на том берегу.
Как будто речь о
Такой метафорой смерть проще объяснить.
И не так скорбно получается.
Умер Игорь Фëдорович. Давненько уже. Время летит, знаете ли.
Умер. Тишину исследует.
Во всяком случае, так принято считать.
Стало быть, за ним прошлое.
Титанический труд — исследование тишины, доложу я вам.
Прошлое, как вы знаете тоже непредсказуемо, но всë же кое-какие факты и артефакты можно подсобрать, полюбоваться, осудить или прославить.
Посмаковать, как говорится, похвалиться…
Опять же величие.
А какая музыка у Игоря Фëдоровича?!
Возьмите хоть «Петрушку», хоть «Жар-птицу» или «Симфонию».
А «Весна священная»?! Что ты!
Бывает, заведëшь пластинку, закроешь глаза — такое великолепие и пожар.
Так бы и не возвращался в настоящее.
Игорь Фëдорович, равно как и Иван Ильич, склонен исчезать. То появится — то исчезнет, то появится — то исчезнет. Ну в точности Иван Ильич.
Близнецы — они и есть близнецы.
Выходит, прошлое наше — в мареве.
Будущее — в тумане, а прошлое — в мареве.
Но грусти нет. Ни малейших признаков.
Стало быть, будем веселиться.
Если получится.
А вот Сергей Романович при внешней аморфности крайне активен и подробен как раз в настоящем. При полной погруженности в себя тоже наблюдает, анализирует. Собирает четверги. Будто бы собирает. Во всяком случае, смолоду собирал. Не оставляет надежды разобраться, систематизировать, что-то вычеркнуть или присовокупить, составить концепцию или опровергнуть, забыться, наконец. Во всяком случае, складывается впечатление, что надежда понять нечто одному ему ведомое ещë не покинула его.
Страдает, конечно. Пьëт, случается.
Для него и сон, и пробуждение — события. Невидимые труды и странствия.
Круглосуточно.
И во сне тоже.
Иногда заговаривает.
Чаще стихами.
Чаще молчит. Тоже стихами.
Стихи, забегая вперëд, непривычные. Иногда непонятно, то ли Сергей Романович стихи читает, то ли Сергей Романович сам по себе, а стихи — сами по себе.
Если Сергей Романович сам по себе, кто в таком случае читает стихи?
И зачем стихи, тем более непривычные, смутные стихи, когда и без стихов туман?
И с давних пор.
Если вдуматься, с самого сотворения мира.
Вопросов много. С тем, что так или иначе касается Сергея Романовича, всегда так. Смутная фигура. Тень самого себя. То, как мы ощущаем себя в одиночестве, когда не спишь, но всë внутри замерло, дремлет. Себя помним ещë, но вот что мы такое есть на самом деле — как-то туманно, и не думается об этом.
И вообще не думается. Обломки фраз, какие-то рифмы не к месту, эхо желаний, утерянные предметы, невидимые купола и арки, пенистый океан, пыльные коридоры без окон, всë в покое и движении, одновременно зыбкое и непостижимое — вот что такое Стравинский С. Р.
Воистину блуждаем, что твои сомнамбулы. Кто-то назовëт эти блуждания особого рода творчеством, а
Изволите видеть — закольцевал. Пустоту закольцевал.
Вот таким образом симфонии и складываются.
Черновики симфоний.

Титанический труд — исследование пустоты.
Между тем — зачин. А, может статься, и реформа в обозримом будущем.
А без реформ мы куда? Всë от сотворения мира — сплошная реформа. А иначе бы до сих пор жили без радио и реестра.
Случаются, конечно, перегибы, Вавилон, например. Но Вавилону уже дана гуманитарная оценка. Соответствующие акценты проставлены.
Будто бы проставлены.
Нет?
Этот и подобные вопросы, назовëм их главными вопросами, — основа агностицизма. Вопросы, ответа на которые не существует.
Во всяком случае, на этом берегу.
Но обречëнность не просматривается. Ни малейших признаков обречëнности.
Стало быть, будем веселиться.
Если получится.
Тем более, когда мы остаëмся один на один со своими мыслями, категории времени и пространства исчезают. И
Иван Ильич и Сергей Романович живут и здравствуют в одном и том же городе — водянистом, сокрытом в самом себе городке Бокове. Бродят по одним и тем же улочкам, наблюдают одни и те же фигуры из облаков, мокнут под одним дождëм, имеют общих знакомых и незнакомых, включая домашних и уличных животных, а вот встретиться у них никак не получается. Всë как-то не складывается. Хотя оба нуждаются друг в дружке. Вы это поймëте по мере погружения в детали предлагаемых вашему вниманию приключений, а речь пойдëт о захватывающих духовных приключениях. О духовных приключениях духовных людей.
Персонажи будущей симфонии — исключительно духовные люди.
Скажете, так не бывает, такого не было никогда.
Но, во-первых, откуда нам знать? Ибо всë, что сказано и написано, все эти мемуары и толкования с действительностью имеют мало общего. Примеров тому не счесть.
Во-вторых, если такого и не было никогда, не означает, что такого не будет никогда.
И, в-третьих, пожалуй, главное — так должно быть.
Разве не к гармонии мы стремимся, разве не просветления ждëм отчаянно?
Череда вышеназванных волшебных обстоятельств и сходств побудила меня написать короткое стихотворение, которое, когда бы ни генетическая скромность автора, могло стать вторым, а может быть, и первым эпиграфом:
на мороз как в топку
громко чуть слышно
жизнь задалась…
Триединство. Закономерность, символ, суть.
Названный герой мой, Сергей Романович Стравинский, тот, что агностик, как я уже докладывал, не дурак выпить. Вы легко и скоро сможете в этом убедиться, если хайку, навеянное Стравинскими, размышлениями о Цусимском сражении и триединой матушке России не отпугнуло и не побудило вас, дорогой читатель, отправить сочинение в настоящую топку уже с настоящими бесенятами и петушками.
Всякий раз, затевая симфонию, я как врач и по мере возможностей стремящийся к честности человек уже в первых абзацах стараюсь уберечь читателя от дальнейшего чтения. Право слово, если уже принялись читать, бросьте это занятие, послушайте лучше ещë раз «Жар-птицу», «Симфонию» и «Петрушку». Больше проку будет, честное слово.
Хотя замечу, такой симфонии свет не видывал. Во всяком случае, собрать воедино трëх столь непохожих друг на друга однояйцевых близнецов, насколько мне известно, никому прежде в голову не приходило.
Снова триединство, обратите внимание.
Наряду со здоровьем пьянство рушит барьеры, спесь, брезгливость. Предаваясь пьянству, сами того не замечая, мы приобретаем новые свойства. Можем, к примеру, взлететь и вылететь, постичь бесконечность и участвовать в снегопаде, сделаться равным великим или другом лилипутов, играться со временем, как будто оно не вселенская каша, а часики на цепочке, воспеть или вовсе отказаться от времени.
Пьянство, медицинское образование, склонность к иронии и самоиронии — вот три достаточных условия, чтобы сделаться русским писателем. Незаурядным писателем, как минимум. Ибо всякий русский писатель незауряден. Если, конечно, он — настоящий писатель. И всякий русский композитор незауряден. Если, конечно, он — настоящий композитор. Как Стравинский.
Или Римский-Корсаков.
Справедливости ради следует заметить — отличить настоящего писателя от ненастоящего невозможно. Потому что, во-первых, непонятно, какими качествами должен обладать судья, а
И Хэма.
Диккенса, конечно. Диккенса, может быть, даже в первую очередь.
Хотя какая разница, если в конечном итоге все мы оказываемся крайне недовольными своей смертью?
И здесь триединство.
Скажете, автор — зануда какой-то, и окажетесь правы.
Всë. Больше о триединстве ни слова. Считайте сами, если вам интересно, а я впредь отказываюсь. Какой смысл, когда кругом три, три, три?…
Три и будет.
А знаете, что? Не считайте, пожалейте себя.
То, что называется, вдруг откуда ни возьмись, нечто. Укладывается сначала на бок, потом на живот… Речь о так называемой цивилизации.
Ворочается, так сказать. А может быть, подобно дрессированной белке, забирается в невидимый барабан. Только представьте — такая тучная реликтовая белка с окаменевшими лапками и тиной во взоре. С одышкой, разумеется — давно живëм-то. Поворачивается со всеми вытекающими последствиями.
Вытекающими — смешно, Бог знает, что можно подумать.
Слова игривы. И подчас опасны.
Или, например, крутит «солнце». Тоже вариант.
Солнце — популярный фокус из моего детства, предмет бахвальства уличной шпаны.
Нечто.
Речь всë о том же, о так называемом человечестве.
Нечто выполняет упражнение нехотя, медленно, с ветрами, стонами и скрипом. Представляю себе эту взмывающую громадную косматую массу с высыпающимися из складок и карманов фантиками, марками, спичечными этикетками (всë из детства), мятыми червонцами (уже позже), презервативами, слипшимися воздушными шариками, слипшимися резиновыми перчатками, табачными крошками, крошечными окурками, линзами, ракушками, ватрушками (порой смертельно и безоглядно тянет рифмовать), печатями, бланками, рулонами, юркими черепашками, юркими червяками, юркими рыбками, юркими рыбаками, настенными календарями, тлеющими сухариками и наскипидаренными воронами…
Перечисление может быть продолжено сколь угодно. Содержимое — на усмотрение читателя. По настроению. Безо всяких выводов, обобщений, аналогий и прочей белиберды. Исключительно по настроению.
А может статься, нет никакой спирали. Мироздание засыпает и пробуждается, затем вновь засыпает и вновь пробуждается. В долгом сне, как положено, затеваются крылатые гипотезы, приставучие мелодии, тысячелетние свары и прочие прелести да пакости.
Поутру мироздание, как положено, приняв, дождь принимается населять своими затеями жизнь. Примется, так как сейчас, по достоверным приметам, оно спит. Совсем недавно, буквально на наших глазах, задремало. По достоверным приметам зреет храп. Нетрудно себе представить, что это будет за храп, впрочем, экстрасенсы достаточно подробно описали его.
Несмотря на сон ноосферы, у отдельных еë представителей, у меня, в частности, иногда, не скажу, чтобы часто, видимо, по привычке, возникают разнообразные фантазии. Скоро, наверное, это пройдëт, но пока ещë возникают. Например,хорошо бы напоследок придумать что-нибудь этакое, чтобы, когда наступит храп, не было так страшно, как в поговорке «страшно невтерпëж».
Или там, в поговорке, речь шла о замужестве?
Тему замужества разовью чуть позже, а вот рифма, согласитесь, получилась сочная, хоть и нестандартная: страшно — невтерпëж.
Хорошо бы придумать, например анекдот или байку. Эх, умел бы я составлять куплеты, цены бы мне не было! Увы! Анекдот свалять — идея несбыточная. Я вообще сомневаюсь, что анекдоты придумывают люди. Не я один сомневаюсь.
Объясниться. Пояснить.
Надобно.
Отступаю от собою же установленных правил и поясняю.
Давно нужно было это сделать. Тогда бы не возникали вопросы «что», да «зачем», да «почему»…
Итак. Выгляните в окно иллюминатора минут через пятнадцать после взлëта. Когда вата небесная уже пройдена. Что видите?
Можно назвать это шëлком?
Нет? А я бы рискнул.
Теперь понятно, в чëм смысл?
И хорошо бы начать с этого поганца Ницше, который, чего уж там, многих смутил, расстроил и вдохновил, который…
Начать, предположим, так. Открыл и закрыл.…
Открыл, прочитал первую фразу, и больше не открывал. И никогда больше не открою, ибо…
Или сразу суть — видели его усы? этого самого Ницше?…
Сразу суть — натуральный таракан.
И всë.
И ни слова о нëм больше.
Пара фраз — а Вельзевул низложен. С этим тараканом, кажется, угадал в десятку, в самое яблочко! Одна точная фраза, и усатый меднолицый Вельзевул низложен!
И попран!
Каково?
В принципе, можно было бы вообще больше ничего не писать. Но на байку не тянет. Недостаточно. Пропадëт фраза. Жаль. Надо бы как-то развить.
Итак. Видели его усы? Этого самого Ницше?
Натуральный таракан.
Что дальше?
Байка — плохо. Баек и без меня хватает. Среди шофëров и рецидивистов я встречал таких мастеров баек, куда мне с ними тягаться? Взять того же Ницше. Хотя он и таракан, но в байках дока.
Спросите — за что его так-то?
Ответ — за то самое!
Твëрдо так, с металлом в голосе — за то самое!
Чтобы впредь не возникало соблазна задавать уточняющие вопросы — за то самое!
Или вот, ещë лучше, обожаю этот оборотец — хотелось.
И всë.
И попробуй что-нибудь мне предъяви после такого-то аргумента.
Откровенно говоря, я смертельно обижен на этого Ницше. За эту вот самую первую фразу. Не осмелюсь повторить. За ту фразу, что лишает каких-либо надежд одним махом.
Надежда должна оставаться. Во что бы то ни стало.
Надежда пульсирует. Как голод. Или радость.
Зачем? Не знаю.
Сочинять с такой пульсирующей надеждой внутри по идее не положено. В особенности в наше блеклое время.
К слову, поэты, как правило, — очень грустный народ, а самые лучшие стихи — те, что навеяны беспролазной печалью.
Опять стихи. Зачем здесь поэзия? Причëм здесь поэзия?
А о чëм вообще речь?
Плевать. Хочу.
Намерен сочинить, придумать, вспомнить кое-что. Выудить, сверить, проверить.
Зачем? Для кого?
Не знаю. Для себя.
Хотя я теперь склонен к созерцанию. Таким, как я, теперь уже ничего не остаëтся, кроме созерцания.
Нам, чьи ноги помнят твист и болгарские сигареты, портвейн и Болгарию саму…
Стоп. Что значит, ничего не остаëтся? Да разве есть на свете ценность значительнее созерцания? И создан ли более значительный персонаж, чем Обломов Илья Ильич, который… что?
Который — всë. Наше всë.
Как Пушкин.
Пушкин и Обломов — недурная компания. Африканец и вельможа.
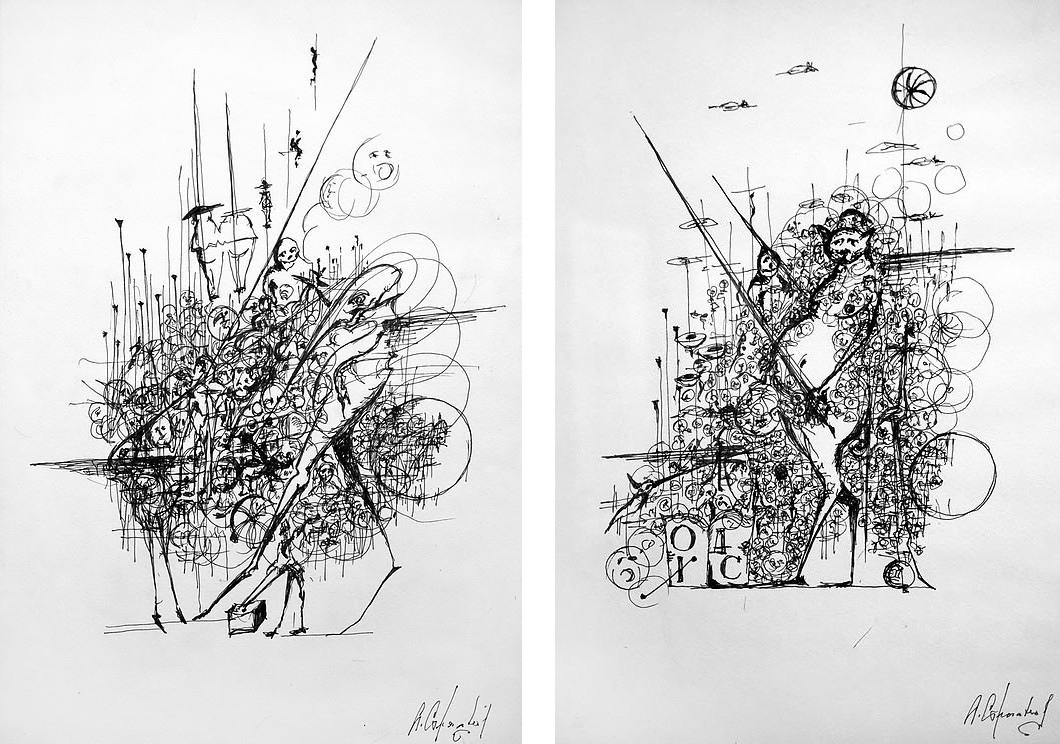
Итак.
В точности как обожаемый Илья Ильич, я склонен теперь к созерцанию. И самосозерцанию. По большому счëту, склонен к пустоте (привет Стравинскому С. Р.). Склонен к пустоте в самом яхонтовом значении этого слова… К пустоте, пустотам, ибо пустоты — это детали. А что может быть приятнее для сочинителя, чем собирание и нанизывание деталей? Включая пустоты.
Кругом триединство и пустоты. Уже и сам устал. Но что делать, когда это так?
Склонен к пустотам, паузам, в то же время, к беседам с собаками, включая воображаемых собак, весьма полезных для письма и вообще весьма полезных во всех смыслах.
В особенности их глаза.
Вот, казалось бы, фраза абсолютно не сочетается с предыдущими фразами. Выпадает и трещит петушком на трамвайной дуге. Однако же мне так захотелось, я и вставил. Это и есть свобода, не та мнимая свобода, когда орут и толкаются.
В особенности в трамваях моего детства. Или на площадях моей юности.
Перед сном беседуйте со своими питомцами. Возьмите за правило.
Хотя бы перед сном.
Так что же всë же, сочинительство или созерцание?
А совместить нельзя?
Совместить нельзя. Уж тут уж
Нельзя где угодно, кроме… изящной словесности. Изящная словесность потому и называется «изящной», что сочетает несочетаемое.
Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лëд и пламень…
Теперь понятно, что имел в виду Александр Сергеевич?
Вот, кстати, к слову пришлось. О чëм они там говорили на Сенатской площади? Ну, пока стояли, мëрзли?
Вчера Архип достал щуку килограммов на семь, например.
Или.
Третьего дня двадцать пять рубликов проиграл… да казëнных.
А потом — бах! и нет Милорадовича! Михаила Андреевича.
Вольтова дуга истории.
А сочинение? что сочинение?
Мне нравится перебирать буквы, слова. Просто так. Без цели и задач.
А в беседах с собаками таится огромный смысл.
Прежде старухи из чулок коврики вязали. Из чулок, тряпочек разных. Дивные коврики. Тëплые, пастельные, как сама старость, поскольку старость — ничто иное, как изнанка детства. Не удивляйтесь, если вы уже встречались с этими ковриками.
Коврики из чулок и бродячие собаки — неизменные мои персонажи, кочуют от сочинения к сочинению.
Ещë Цусимское сражение. Часто размышляю о нëм.
О Милорадовиче и Цусимском сражении.
С детства.
Думаю, например, а что, если бы всë сложилось не так, а иначе. Или просто представляю себе, вот они идут, отливая серебром: «Князь Суворов», «Ослябя», «Аврора»… А Милорадович, скажем, простыл, и в тот злополучный день из дому не вышел. Укрылся пледом, читает себе «Леона и Зыдею» юного Миши Загоскина.
«Аврора» — особая песнь. Позже побалую вас одной связанной с крейсером любопытной историей из жизни тропических животных. Не броненосцев, нет. Логика не всегда срабатывает. Далеко не всегда.
Эх, Цусима! Какие люди, какие корабли! Доблесть, понимаете, честь! Вот как будто всех доблестных и честных морских офицеров собрали вместе и убили. Вместе с кораблями.
Хитросплетения большой игры с неведомыми правилами. Партия прописана заранее. Например, если бы революции было назначено накрыть Японию, всех доблестных и честных японских морских офицеров собрали бы вместе и убили. Вместе с кораблями. То есть поражение потерпел бы адмирал Того и наверняка совершил бы харакири в цветущем возрасте или в цветущем орешнике. Но, во-первых, революция в Японии — очевидный перебор, так как японцам хватает землетрясений. А
Игорь Фëдорович при жизни не успел создать симфонии на материале Цусимы, может быть, ему это и в голову не приходило. Зато теперь, когда времени у него бесконечно много, он наверняка задумался об этом. Иначе быть не может, раз уж эта мелодия прозвучала во мне, точнее, в моей поэме о Стравинском.
Точнее, так. В настоящее время великий композитор Игорь Фëдорович Стравинский работает над симфонией о Цусимском сражении, почему, собственно, автору и вспомнился этот именно, а не какой другой из многочисленных эпизодов русской истории.
Невелика хитрость полюбить победу. Ты сумей поражение полюбить искренне и нежно.
А нынешние старухи, обратите внимание, оттого, что без любви оказались, сами как будто из чулок связаны.
Были ещë, помнится, в школьные годы такие циркули со скобой или петелькой, не знаю, как лучше назвать, куда вставлялся карандаш. Копеечные. Теперь таких не найти.
По тем дешëвеньким циркулям память тëплая. А в дорогих, металлических, из готовален, души не нахожу.
Наверное, потому, что не чертëжник.
Не чертëжник, не математик. Цифровой кретинизм у меня. Не помню, в каком году школу кончил. Всякий раз спрашиваю. Испуган точными науками навсегда.
Учительница строгая была. С нечистыми волосами и родинкой на шее.
Возьмите хоть понедельник, хоть вторник, любой день недели, любой город или посëлок сегодня.
Нынешний Боков возьмите. Скажем, Советский проспект. Что там? Запах электричества. Сажа и бронза. По вечерам фонарики снуют — машины. Не часто, нет. Мертвецкие в просторных окнах. Кварц. Газеты под ногами. Скорлупа яичная иногда. Вороны иногда. Голубей не стало. Заикание и гул.
Редко слова. Бранятся.
Боков возьмите. Скажем, Куету. Что там? Горячие лужи. Конюшня на отшибе. Окна уже маленькие, живые. Собачьи свадьбы. Теплушки, теплушки, бойлерные. Всегда тепло. Дождик тëплый. В синем киоске сахарная вата. Сортиры извëсткой побелены. Шëпот, да лепет. Всегда тепло.
Слова — редкость. Бранятся, разумеется.
Возьмите Боков. Скажем, Худоложье. Зимой пряничные домики снегом укутаны. Как ëлочные игрушки. Тут и там глаза кошачьи. Жëлтые и зелëные. На проспекте — фонарики, а здесь — глаза кошачьи. Машин не бывает. Колодец в ледяных узорах. Нож в сугробе. Гуси шествуют протяжно. Собаки лают только по праздникам.
Слова — редкость. Бранятся, главным образом.
С одной стороны — город, а
Что за станция? Россия-матушка.
По тюрьме теперь многие скучают, в связи с чем обращаются друг к другу «братишка». Лубок и жертвенность в потустороннем свечении. Свет сочится с той стороны, с того берега. Присмотритесь хорошенько. Где же тут тарелочкам не прилететь?
Справедливости ради, много смеëмся. Ну хотя бы так.
А на диване хорошо.
Всë видимое и невидимое связано одной тонюсенькой нитью: и этот мир, и тот, и старухи, и их коврики, и их пушистые воспоминания, и постояльцы тех воспоминаний, их соседи, непременно соседские собаки, пушистый кот, пожиратель лимонного дерева, декабристы, террористы, Государь император, Пушкин, его голова, дети, внуки, внучатые племянники, так называемый народ, копошение народа, маета, празднества и войны, кивера, корветы, лапти, прохоря, лепни, циркули и цирки, посуда в раковине, немая лампочка, опять же Илья Ильич.
От Ницше вроде бы отказались, а он не желает, как говорится. Его в дверь — он в окно, таракан. Старик Плюшкин, его коврики из чулок, какой-нибудь улан в кресле бряцает, дядя Гена, сосед, хороший, слесарь, домашний, седой, редкость, кролики опять же пушистые, и карликовые, их теперь много стало, лошадь, сосредоточена, рабство своë принимает как неизбежность, при этом великодушна и добра, другие разные лошади, император Август, другие императоры, месяцы март, апрель, май, июнь, июль, Навуходоносор…
Кто ещë? Вымершая птица гасторнис, уже не такая пушистая, но всë же.
И так до бесконечности.
Если вдуматься, ничего не меняется. Ничегошеньки. Опять же исчезает легко. Закрыл глаза — и всë. Но это, конечно, запрещëнный прием.
Солгал. Никогда не был гасторнис пушистым, так, клочки какие-то. Печальное будущее содержалось уже в самом его обличии.
Что значит, солгал? Мне представляется, что когда-то он был очень даже пушистой птицей, пушистой и голосистой. Значит, таким он и был.
Ваше здоровье! И довольно. Пора приступать.
Так, чтобы было понятно, ниточку продолжаем тянуть, а свет, предположим, выключили или поменяли. Сделали его едва тлеющим.
Итак. Я сплю с котом в головах и собаками в ногах.
Выпил чуток и завалился спать.
И Стравинский С. Р., Сергей Романович, спит. Отдыхает. Потому свет и поменяли.
А вот лошадь за окном, обратите внимание, так и стоит, не шелохнется.
Изумительно умные глаза у той лошади.
Перед сном беседуйте со своими питомцами.
Примите за правило.
