Пиноккио в Волгограде: Дмитрий Бутрин для Inliberty.ru
О возвращении символов в России говорят сейчас много, например, практически в прямом эфире мы наблюдаем эволюцию смысловых значений «георгиевской ленточки»: еще месяц назад предполагалось, что из милитаристского советско-лоялистского символа (как рассчитывал ее автор, бывший сотрудник бывшего информагентства РИА «Новости») она превратится в символ антилиберальной оппозиции, но «Новороссия» как-то незаметно выработала внутри себя свою символику и адаптировала в борьбе с заокеанскими агрессорами модифицированный флаг американской же Конфедерации.
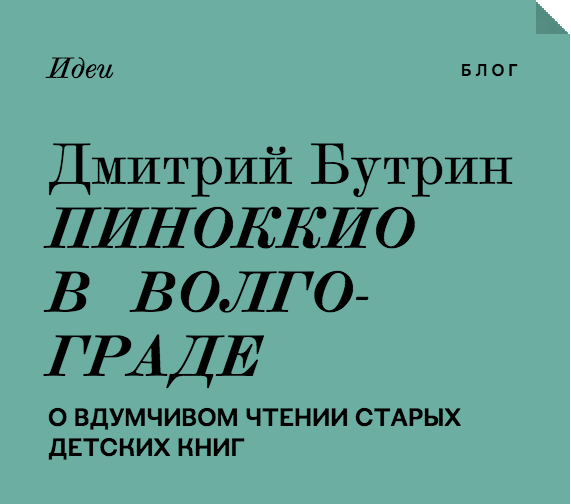
Ленточка теперь используется преимущественно гостями столицы в качестве оберега и девушками из столичных офисов — как любовный амулет, для привлечения внимания юношей; и в первом и во втором качествах ленточки повязываются на носимую ручную кладь. Другой пример — герб СССР: активное осмысление значения символа покойного государства маркетологами некрупных производителей продуктов питания привело к тому, что творение художника Гознака Ивана Дубасова используется теперь как своеобразный отсыл к советским ГОСТам и является декларативной заменой «знака качества».
Хуже пришлось товарищу Сталину. Как мне уже неоднократно приходилось констатировать, в целом широкие слои населения потребляют светлый образ вождя как символ эффективных некоррумпированных госструктур, реализующих моральные ценности советского общества. Однако есть нюанс, связанный с практикой работы тоталитарного государства. Дело в том, что с 60-х годов слово «Сталин» стало в исконном смысле термина нецензурным, то есть запрещенным к использованию вне специальных и технических текстов. Невеликий корпус русских нецензурных слов встретил это слово как брата — с тех пор и до 1986–1987 года нечесанная бабка-кликуша на трамвайной остановке, заполошно орущая о «сталине», «гитлере», «евреях» (еще одно нецензурное слово, с 40-х годов) и «жопе», воспринималась как член общества, неправомерно употребляющий обсценную лексику (о связи сакрального и обсценного написано слишком много, чтобы давать конкретные ссылки) в публичном месте под угрозой административного наказания в пять деревянных. Перестроечная пресса не до конца легализовала «Сталина» как слово цензурное. Поэтому во многом вялотекущую дискуссию о возвращении Волгограду неисконного наименования «Сталинград» также стоит рассматривать как борьбу идеологии «новой искренности» с советской стыдливостью: написать на географической карте «Сталин» хотят преимущественно те, кто с удовольствием заменил бы на том же русском глобусе «США» на другие три буквы, а в противостоянии им слишком заметно советское семейное стремление дать по губам плохому подростку, не знающему приличий.
И та, и другая сторона забывают о том, что судьба любого символа такого рода — указывать на нечто из текущей или будущей, но не из прошедшей реальности.
Эволюция символов может быть куда как более забавной и интересной, чем судьба герба СССР, имени Сталина и георгиевской ленты. Меня, например, сейчас много сильнее интересует почти двухвековая судьба деревянной куклы с длинным носом, во всем просвещенном мире использующейся как символ взросления.
***
Начало истории носит легендарный характер, и, как ко всякому мифу, к нему следует относится критично. То ли в 1760-м, то ли в 1790 году жил во Флоренции некий инвалид по имени Пиноккио Санчез. Будучи призван в армию, он потерял ноги и нос в одной из военных кампаний тех лет, но выжил, а местный то ли мастер, то ли доктор Карло Бестульчи сделал ему деревянные протезы на место утерянных конечностей. Он дожил до 1838 года и был похоронен на кладбище, где в 1890-м был также похоронен вполне реально существовавший и даже довольно известный человек, который теоретически мог видеть инвалида в детстве, — Карло Лоренцини.
Лоренцини родился во Флоренции в 1826 году и, что неплохо известно, служил в армии — в 1848 году в армии Тосканы, куда сын священника и семинарист из училища Колле де Валь д’Эста, стажировавшийся затем в школе ордена пиаристов, ушел с должности библиотекаря в епископальном книгохранилище. Первая война за независимость Италии явно сбила будущего священника с прямого пути — уже в 1849 году он обнаруживает в себе сатирика-фельетониста и начинает издавать журнал Il Lampione (быстро запрещенный властями Тосканы), с помощью дяди пытается купить другой журнал, пишет в газеты аллегорические статьи и театральную критику, входит в цензурную комиссию Флоренции по театральным вопросам. Когда в 1856 году известный издатель Челестино Бьянчи открывает новую газету La Lenta, Лоренцини, уже тогда занимавшийся написанием и переводом на итальянский сказок, пишет туда несколько памфлетов под псевдонимом «Карло Коллоди». Бьянчи в 1860 году закроет Lenta, открыв вместо нее легендарную Gazetta del Popolo, но
В это же время другой коллега Лоренцини, флорентийский журналист Фердинанд Мартини, получает предложение от руководства своей газеты Il Fantulla — опробовать на итальянской почве изобретение пытливого и неуемного американского гения, воскресные приложения к газете.
В 1879 году Мартини, в будущем — итальянский сенатор и соавтор «Манифеста фашистских интеллектуалов», министр по делам колоний Италии и губернатор Эритреи, выпускает литературное приложение к Il Fantulla.
Оно имеет бешеный успех, а будущий интеллектуальный вождь разыскивает по всей Флоренции авторов — под Коллоди выпускается еще одно приложение, Il Giornale dei Bambini, «Газета для детей», первая в Италии, и в ней под названием «Приключения Пиноккио» публикуется в трех выпусках все, что успел написать про burrattino, деревянную марионетку, бывший кандидат в священники Лоренцини.
История закончилась бы на этом третьем выпуске, где деревянный Пиноккио, повешенный Лисом и Котом, висит на дереве — и, в силу своей деревянности, не может задохнуться. Однако пришлось писать дальше, поскольку итальянские дети буквально завалили Фердинанда Мартини с требованием считать слова «конец» в «Приключениях Пиноккио» яко небывшим — требовалось продолжение.
Продолжение Коллоди, право слово, вымучивал. В ход шли и «Золотой осел» Апулея, и история Ионы в Ветхом завете, и
Продолжение статьи здесь.
