Стивен Пинкер: cнижение числа войн и концепции человеческой природы
Похоже военные конфликты идут на убыль. За две трети столетия, прошедшие со времен окончания Второй мировой войны, великие державы и развитые страны в целом почти не сталкивались друг с другом на поле боя — эта ситуация не имеет прецедентов в истории (Holsti 1986; Jervis 1988; Luard 1988; Gaddis 1989; Mueller 1989, 2004, 2009; Ray 1989; Howard 1991; Keegan 1993; Payne 2004; Gat 2006; Gleditsch 2008; подробнее см. в Pinker 2011, гл. 5). Вопреки прогнозам экспертов, США и СССР не начали третью мировую войну, да и вооруженных конфликтов между великими державами не было с окончания Корейской войны в 1953 году. После шестисотлетнего периода, когда страны Западной Европы воевали в среднем по два раза в год, с 1945 года в этом регионе ни одной войны не было. Более того, примерно 40 самых богатых стран мира вообще не схлестывались в вооруженных конфликтах. А вот и еще один приятный сюрприз: после окончания холодной войны в 1989 году военных конфликтов любого типа в мире стало меньше (Human Security Centre 2005; Lacina, Gleditsch, Russett 2006; Human Security Report Project 2007; Gleditsch 2008; Goldstein 2011; Human Security Report Project 2011; подробнее см.: Pinker 2011, гл. 6). Межгосударственные войны случаются крайне редко; снизилось — после определенного роста в 1960–1990-х — и количество гражданских войн. Уровень смертности от межгосударственных и гражданских войн в мировом масштабе также резко сокращается: с 300 человек на 100 000 жителей планеты во Второй мировой до почти 30 в Корейской войне, чуть больше 10 во времена войны во Вьетнаме, менее 10 в 1970–1980-х и менее одного — в XXI веке.
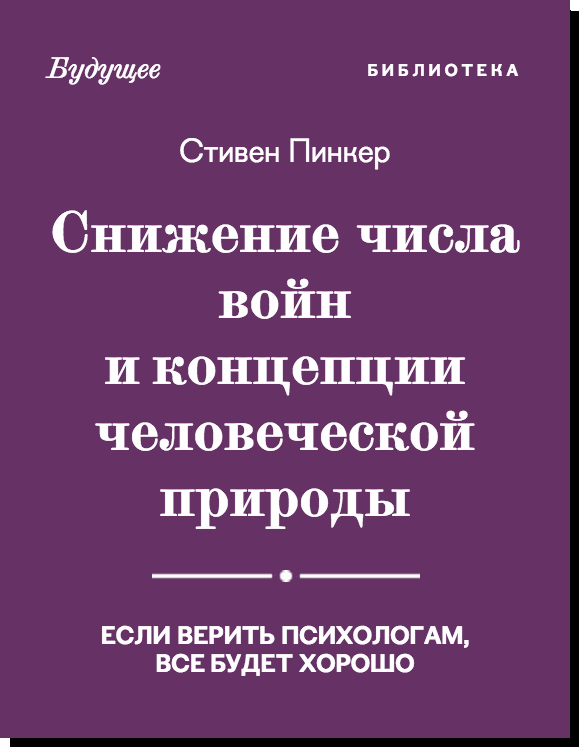
Насколько серьезно следует воспринимать подобные данные? Что это — счастливое статистическое колебание, случайное стечение обстоятельств, которое непременно сойдет на нет? Может быть, речь идет о манипуляциях с подсчетом числа самих войн и их жертв? Или мы переживаем «спокойный» отрезок неизбежного цикла — затишье перед бурей, как на разломе Сан-Андреас накануне гигантского землетрясения, или сухостой, куда кто-нибудь вот-вот бросит непотушенный окурок? Точного ответа на эти вопросы не даст никто. В этой статье я попытаюсь рассмотреть их через призму человеческой природы.
Многие наблюдатели скептически относятся к тезису о снижении числа и разрушительности войн, поскольку, по их словам, природа человека не изменилась, и нам по-прежнему свойственна внутренняя склонность к насилию, постоянно приводившая к вооруженным конфликтам. Свидетельств о нашей врожденной агрессивности достаточно: мы видим их в распространенности агрессии среди приматов и присутствии во всех человеческих обществах насилия — убийств, изнасилований, семейного насилия, бунтов, нападений, междоусобиц. Более того, есть веские основания полагать, что в ходе эволюции нашего вида к насилию нас подталкивали определенные гены, гормоны, мозговой контур и естественный отбор (подробнее см.: Pinker 2011, гл. 2, 8, 9). С 1945 года зрелости достигло всего два поколения людей, и конечно за столь короткий срок эти факторы не могли приобрести «обратный знак» и свести к нулю результаты нескольких миллионов лет эволюции гоминидов. Поскольку наши биологические импульсы к войне никуда не делись, утверждают сторонники этой концепции, любые «мирные интерлюдии» преходящи. Тех, кто полагает, что снижение количества войн не является результатом арифметических манипуляций или счастливого стечения обстоятельств, зачастую упрекают в романтизме, идеализме и утопизме. Действительно, некоторые склонные к идеализму руссоисты считают, что в человеческой природе изначально отсутствуют импульсы к насилию: они утверждают, что мы, люди, — это «безволосые бонобо» (карликовые шимпанзе), наполненные окситоцином и наделенные нейронами сочувствия, придающими нам естественную миролюбивость.
Я не думаю, что мы — безволосые шимпанзе, но убежден, что войны действительно идут на убыль. Поскольку я не раз проявлял себя сторонником реализма в духе Гоббса, кому как не мне утверждать, что снижение числа войн вполне совместимо с неромантическим взглядом на человеческую природу. В книге «Чистый лист» (Pinker 2002) я отмечал, что в результате естественного отбора мы приобрели, среди прочих, такие свойства, как жадность, страх, мстительность, ярость, мачизм, трайбализм и самообман, что уже само по себе способно побуждать наш вид к насилию. Тем не менее я постараюсь доказать, что этот нелицеприятный взгляд на природу человека абсолютно совместим с истолкованием снижения числа войн как реальной и возможно устойчивой тенденции в нашей истории. Вот четыре причины, по которым снижение числа войн совместимо с реалистической концепцией человеческой природы:
1. С нами случались и более неожиданные вещи
Снижение уровня, а иногда и исчезновение определенных категорий насилия нередко встречается в истории человечества. В моей книге «Добрый ангел в нашей природе» (Pinker 2011) и исследовании Джеймса Пейна «История силы» (Payne 2004) приводятся десятки примеров на сей счет. Вот некоторые из них:
— В анархических племенных обществах уровень смертности от войн был в пять раз выше, чем в первых государственных образованиях.
— Во всех древних цивилизациях регулярно практиковались человеческие жертвоприношения, но сейчас они полностью исчезли.
— За период со Средних веков до XX столетия количество убийств в Европе по отношению к численности населения сократилось как минимум в 35 раз.
— В ходе Гуманитарной революции во второй половине XVIII века во всех крупных странах Запада были отменены пытки как вид уголовного наказания.
— Некогда в Европе смертной казнью карались сотни преступлений, в том числе и незначительные, вроде кражи капусты или негативного отзыва о королевского парке. Но в XVIII веке к смертной казни начали приговаривать только за государственную измену и особо тяжкие преступления против личности, а в XX веке она была отменена во всех демократических странах Запада кроме США. И даже в Америке 17 из 50 штатов отказались от смертной казни, а в остальных она (по отношению к численности населения) применяется неизмеримо реже, чем в XVIII веке.
— Система рабского труда в свое время была узаконена по всему миру. Но начиная с XVIII века по планете прокатилась «аболиционистская волна», чьей финальной точкой стала отмена рабства в Мавритании в 1980 году.
— В ходе Гуманитарной революции были упразднены также охота на ведьм, преследование за религиозные убеждения, дуэли, кровавые зрелища и долговые тюрьмы.
— Суды Линча над афроамериканцами происходили в США 150 раз в год. В первой половине XX века их количество снизилось до нуля.
— Телесные наказания детей — как узаконенные шлепки и порки в школе, так и пощечины и подзатыльники в семье — в большинстве западных стран стали редкими случаями, а в нескольких государствах Западной Европы запрещены законом.
— С 1970-х годов количество убийств, изнасилований, случаев домашнего насилия, издевательств над детьми и преступлений на почве нетерпимости резко сократилось (в некоторых случаях — на 80%).
С учетом этих фактических данных о снижении уровня насилия споры о том, допускает ли человеческая природа изменения в этой сфере, представляются бессмысленными. Вопрос в том, как это происходит.
Продолжение статьи здесь.
