Авторитаризм – лучшее, что случалось с русской культурой
Эссе Романа Смирнова, создателя и автора литературного фэшн-зина «Боюсь Вирджинии Вулф», об общих чертах современной российской культуры.
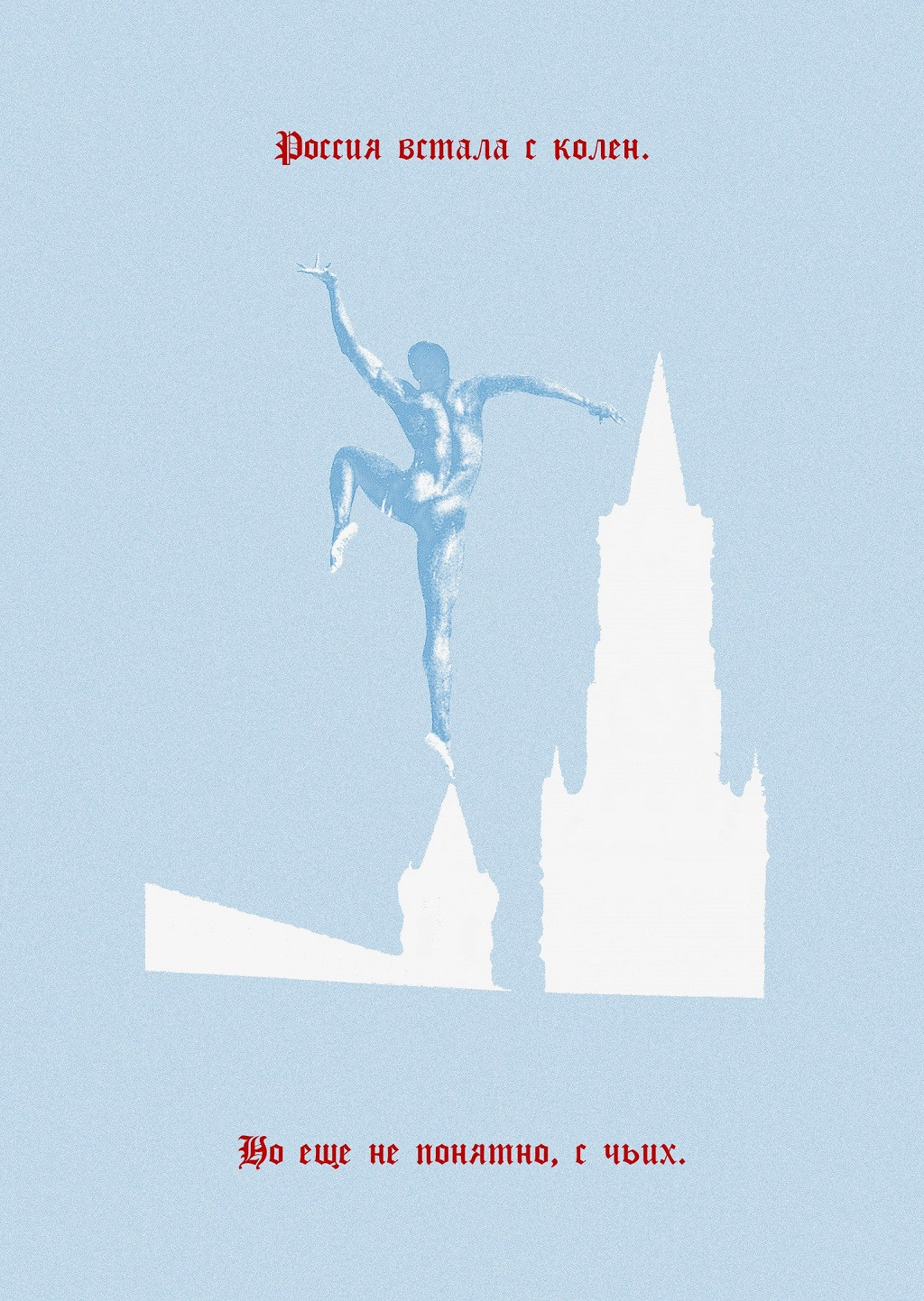
Боюсь, что это эссе мне придётся начать в самом мерзком смысле этого слова поэтично, ведь его идея пришла ко мне поздним вечером… Наверняка, у многих такое было. Вы стоите одни. Темно. Не тепло и не холодно. Ждёте кого-то и смотрите, как уличные торговцы сворачивают свои ларьки. У станции метро кто-то играет на саксофоне. Медленно. И красиво. Не так дерьмово, как это бывает обычно. Вы даже хотите подойди и дать что-то музыканту и, как обычно, не подойдёте.
Именно здесь, в этом месте, я подумал, что Россия — та, какой мы знаем её сегодня — похожа на
Слушаете музыку.
Медленно…
И красиво.
Представьте, что Титаник тонул бы не несколько часов, а несколько десятилетий. Ночное небо. Штиль. Матросы и знающие толк пассажиры судачат, зашла ли вода в машинное отделение. Делают ставки. В каютах тихо. Люди пьют шампанское и танцуют. Дети катают машинки по
Беспечность.
Идиллия.
Холодная бездна, в которую падаешь с парашютом.
Эта эстетика медленного, почти контролируемого упадка, сама по себе довольно успешно эксплуатируется современной культурой. В качестве примеров можно назвать художественные практики Антона Николаева и
И всё же не это заставляет меня утверждать, на первый взгляд вызывающе, что авторитарный режим есть благо для русской культуры. Одной лишь эстетики упадка для этого было бы недостаточно.
Ещё со времён Франкфуртской школы общим местом в гуманитарной науке остаётся тот факт, что авторитаризм есть зло и вещь крайне вредная для развития — во всяком случае, в позитивном понимании этого слова. В дискурсе культурного производства эту оценку подкрепляет суждение о том, что в условиях авторитаризма культурные институции подвергаются деградации. Достаточно сравнить современный Эрмитаж и Neues Museum в Берлине, чтобы это понять. Но русская культурная традиция никогда не была в полной мере институционализированной.
Русский космизм, «Чёрный квадрат», музыка Стравинского, балет Дягилева, кубофутуризм Маяковского, заумь, лингвистическая теория Бахтина, московский концептуализм, метареализм, Поп-механика — почти всё самое прогрессивное и новое, в привычном модернистском понимании этого термина, в русской культуре появлялось за пределами официальных культурных институций и, как правило, не благодаря, но вопреки им. Некоторым исключением из этой практики оказались 1920-е годы, когда в официальных учреждениях Советской России в условиях относительной свободы работали Эль Лисицкий, Александр Родченко, Александра Коллонтай, Казимир Малевич, Надежда Ламанова, Сергей Эйзенштейн и проч.
По отношению к авторитарному режиму культура, возникающая вне официальных институций, выступает не зависимой, но реактивной. Она реагирует, подчас достаточно явно, на особенности и изменения, возникающие в авторитарной ситуации, являя собой фиксацию авторитаризма, рефлексию над или борьбу с ним.
Особенно актуальной в авторитарной ситуации, которая в России давно переросла политический и обрёл ментальный характер, становится одна из культурных стратегий, описанная мной в эссе «Бездна, которая катится в мир». Суть этой стратегии заключается в том, что искусство осуществляет работу с областью запретного и участвует в раскрепощении сознания. Исторически эта стратегия оказалась наиболее востребованной и опробованной в западной литературе XX века. Здесь я вынужден привести свой отрывок, чтобы прояснить, о чём именно я говорю.
«Долгое время путь литературы был путём разрушения табу. От первых автобиографий, которые появляются в Европе в конце средневековья, порывая с боязнью человека писать о себе самом, до Пьера Гийота и Кэти Акер, чьи тексты заставили западное общество конца XX века вспомнить о значении слова «цензура». Литература подчиняла себе запретное. Вскрывала его. И запретное переставало быть таковым, то есть являться самим собой.
Многие имена и даже целые литературные течения, отвоевавшие себе место в коллективной памяти, известны нам во многом потому, что сильно повлияли на раскрепощение сознания своих современников. <…> Речь здесь идёт не только о моральных табу, но табу как явлении в принципе.
Начиная с гоголевского «Носа» и творчества Эдварда Лира, литература стала вскрывать табу на нарушение логики. <…> Позже, в десятых годах XX века, Тристан Тцара и русские футуристы пошли ещё дальше и нарушили логику языка, тем самым лишив общество ещё одного табу.
<…>
Большая проблема для современных писателей состоит в том, что хоть сколько-нибудь значимых табу для западного, то есть наиболее прогрессивного, общества больше нет».

Описанная стратегия, обращающая внимание на нечто маргинализированное, идущая через Себастьяна Брандта, писавшего о безумцах, к Марселю Дюшану, обратившемуся к «простым» предметам, и далее, сегодня доступна русскому искусству в своей впечатляющей полноте.
Когда маргинализированной оказалась сама свобода, а область запретного стала невероятно широкой, русская культура обрела уникальный шанс работать с этой свободой, осмысляя её и наделяя новыми смыслами в дополнение к тем, которыми наделили её Руссо, де Сад, Гегель, Делакруа, Шопенгауэр и прочие.
Русской культуре снова есть, с чем бороться. Шанс поистине уникальный для эпохи конца истории, если пользоваться терминологией Фукуямы.
История русского авторитаризма начинается не сегодня. Так называемая реальная или оффлайн-культура столкнулась с авторитарными механизмами ещё в 1990-х, когда с разницей в несколько лет из России пришлось уехать сначала Славе Могутину, спасаясь от уголовного преследования за публикацию «Чеченский узел», а позже — Авдею Тер-Оганьяну в ожидании преследования за перформанс «Юный безбожник».
Тем не менее, до второй половины 2010-х нельзя было утверждать, что русская культура существует в авторитарной ситуации полностью. До недавнего времени интернет оставался зоной свободы, отчуждения и отречения от авторитарных практик. И только сегодня, когда авторитарные механизмы начинают работать в интернете, русская культура целиком погружается в новые реалии. У неё появляется уникальный шанс сделать то, чего почти не может сделать западная культура — побороть запретное.
На практике мы видели это и ранее: когда интернет ещё оставался зоной, нетронутой авторитарными механизмами, борьбу с запретным начала культура, чувствующая себя ущемлённой в сети, а потому нуждающаяся в
Ныне, когда не только офлайн-, но и
Хотя приведённые мною примеры политичны, я не говорю о том, что нас ждёт или должна ждать политизация искусства. Область запретного уже становится шире области политического, в неё попадают такие категории как безбожие, феминизм, гендерная ненормативность, нонконформизм, космополитизм и проч.
Есть все основания полагать, что авторитаризм — это лучшее, что случалось с русской культурой за последние десятилетия. И именно сопротивление авторитарным практикам, высветление запретного и преодоление табу явят нам наиболее выразительные образцы этой самой культуры.
Сама по себе ситуация всецелого нахождения русской культуры в авторитарном поле видится мне по-настоящему уникальной и вряд ли имеет значительные сходства с ситуацией тоталитарного государства, в которой русская культура прибывала большую часть XX века. В тоталитарном обществе, в отличие от авторитарного, ввиду его идеалогизированности и атмосферы страха, само появление автора — в модернистском или же постмодернистском смысле, как субъекта или как медиума — оказывается крайне проблематичным. Столь же проблематичным оказывается и появление нового…
Ради цельности композиции мне придётся закончить это эссе так же скользко и в вычурном смысле поэтично, как оно было начато.
Русская культура сегодня — это богоматерь Панахранта, сидящая на своём обшарпанном троне. И если мы хотим, чтобы она стала по-настоящему громкой, у нас есть два пути: удовлетворить её орально или вонзить кол ей в затылок. Что-то из этого происходит сегодня.
Что именно?
Она будет жить?
