Джордж Льюис. Импровизационная музыка после 1950 года: афрологические и еврологические влияния
Спорная и неоднозначная по содержанию статья афроамериканского тромбониста и композитора Джорджа Льюиса о двух сторонах импровизационной музыки — афрологии и еврологии. Вышла в 1996 году, публикуется на русском языке впервые.

С самого начала 1950-х годов полемика вокруг природы и функции импровизации в музыке захватила умы импровизаторов, композиторов, исполнителей и теоретиков, социологов и музыковедов, сферой интересов которых являлся мир искусства, где прочно смыкались музыкальные ландшафты Европы и Америки. До 1950 года произведения многих композиторов — представителей этого мира — были подробно нотированы с помощью хорошо известной европейской системы нотной записи. После 1950 года композиторы стали активно экспериментировать с открытыми формами и более персональными способами нотации. Более того, эти композиторы начали подходить к значительной части композиторских аспектов в большей степени как исполнители, тем самым обнаруживая интерес к генерированию музыкальной структуры в реальном времени как к формообразующему аспекту музыкального произведения.
После примерно стопятидесятилетнего перерыва, на протяжении которого генерирование музыкальных структур в реальном времени почти исчезло из западного музыкального — или «пан-европейского» — обихода, те, кто по идее должны были наследовать эту традицию и в послевоенное время, возобновили исследование возможностей формообразования в реальном времени, включая и изучение роли импровизации в этом процессе. Периодическое обращение к импровизации, вероятно, в немалой степени обусловлено событиями в музыке и обществе, происходящих в различных областях всего музыкального ландшафта. В частности, появление в 1960-х годах разнообразных форм [так называемого] «джаза» — созвездий музыкантов афроамериканского происхождения, чья деятельность и в Европе, и в Америке в большей степени связывается с исследованиями импровизации как формы «искусства», очевидно, является важным стимулом к переоценке возможностей импровизации.
Уже в 1940-х годах группа радикально настроенных молодых афроамериканских джазменов, несмотря на отсутствие доступа к финансовым и политическим ресурсам, необходимым для успешного функционирования в «высоких» музыкальных кругах, отважилась бросить вызов западному пониманию структуры, формы, коммуникации и выразительности. Эти импровизаторы, будучи осведомлёнными об особенностях музыкальной традиции Запада, обратились в своём музыкальном самовыражении к истокам африканской и афроамериканской культуры и общественной истории. Получив международное признание и распространившись под названием «бибоп», эта музыка вместе с более поздними формами «джаза» привела к появлению новых очагов межнациональной, межкультурной активности в сфере музыкальной импровизации. В частности, можно с уверенностью предположить, что возникновение этих новых, энергичных и предельно интеллектуальных импровизационных форм послужило стимулом для музыкантов иных традиций — в частности, для европейских и американских композиторов, работавших в рамках европейской парадигмы, — к обращению к некоторым аспектам музыкальной импровизации. Однако же на словах эти композиторы активно отрицали влияние афроамериканских импровизационных форм на их творчество.
Более того, публикации, описывающие продукты американской версии движения в сторону включения музыки реального времени в композицию, часто представляют эту деятельность как составляющую «американской музыки после 1945 года» — формулировки, в теоретическом плане почти всегда вытекающей из общего потока европейской истории, культуры и общественных установок — иными словами, из «западной традиции». В таких публикациях обычно предпринимается попытка отрицания или преуменьшения влияния афроамериканской музыки реального времени на творчество европейских и евроамериканских композиторов.
Однако само это отрицание очертило область пространства, в котором импровизация как теоретическая конструкция может быть ясно рассмотрена не только как предмет музыкально-теоретических дискуссий, но и в плане социального и культурного соперничества между музыкантами — представителями импровизационной и композиционной сторон музыкального дискурса. Теория и практика бытования импровизации в
В настоящем эссе предпринимается попытка исторического и философского исследования музыкальных систем, на которых основываются афроамериканские и европейские (включая европейско-американские) практики реального времени, посредством анализа как музыкальных, так и так называемых «экстрамузыкальных» отправных точек. Этот анализ строится на использовании в качестве базовых терминов двух дополняющих друг друга прилагательных, «афрологический» и «еврологический». Эти термины метафорически отсылают к системам музыкальных воззрений и практик, которые, на мой взгляд, иллюстрируют конкретные виды музыкальной «логики». Одновременно эти термины предназначаются для историзации особенностей этих двух систем, эволюционировавших в столь различных по отношению друг к другу культурных средах.
Импровизированное музыкальное высказывание, как и любая музыка, может быть истолковано с учетом исторического и культурного контекста. История притеснений, сегрегации, рабства, навязанного афроамериканцам доминирующей белой американской культурой, существенно повлияла на эволюцию социомузыкальных воззрений, разительно отличающихся от тех, что выросли из самой доминирующей культуры. Обсуждение импровизации после 1950 года часто сосредотачивается на нескольких ключевых проблемах, специфика рассмотрения которых сильно зависит от культурного бэкграунда обсуждающих, — даже когда два приверженца разных убеждений обсуждают одну и ту же музыку.
Так, моя концепция «афрологической» и «еврологической» систем в импровизационной музыке отсылает к социальному и культурному положению и основывается в большей степени на историческом генезисе, нежели на этнической сущности, тем самым учитывая реальность межкультурных и межрасовых коммуникаций между импровизаторами. К примеру, афроамериканская музыка —как и любая другая музыка — может быть исполнена представителем любой «расы», не теряя при этом своей особенности как исторически афрологичной — подобно тому, как карнатическая вокальная музыка, исполняемая Терри Райли, не трансформирует рагу в еврологичную музыкальную форму. Мои выкладки не предпринимают попытки определить этническую или расовую принадлежность, хотя они призваны убедить, что влияние этнического или расового компонента в исторически сложившейся социомузыкальной группе должно быть признано прямо и честно.
В разработке герменевтики импровизационной музыки ключевым моментом является изучение двух основных американских послевоенных традиций музыки реального времени. Эти традиции связаны с двумя значительными именами в истории американской экспериментальной музыки 1950-х годов — Чарли «Бёрд» Паркер и Джон Кейдж. Деятельность этих двух чрезвычайно важных творцов от музыки имела существенное значение не только в рамках соответствующих каждому из них традиций, но и в плане их взаимодействия. Творчество обоих этих художников невероятно влиятельно, но я хотел бы добавить, что именно их работы в области музыки реального времени оказало серьезное воздействие на мировую музыкальную культуру. Музыку, созданную двумя этими художниками и их преемниками, можно рассматривать как воплощение двух очень разных концепций создания музыки в реальном времени. Эти различия охватывают не только музыку, но и области, которые когда-то считались «экстрамузыкальными», включая расовую, этническую и классовую принадлежность, а также социальную и политическую философию.
Чарли «Бёрд» Паркер
В музыкальном мире импровизация не является ни стилем, ни музыкальной техникой. Структура, смысл и контекст в музыкальной импровизации возникают из специфического анализа, генерирования, манипуляций и трансформаций звуковых моделей. Джаз, будучи преимущественно импровизационным музыкальным направлением, уже давно органично оперирует этими и другими структурными элементами. Для афроамериканских импровизаторов, тем не менее, звуковая символика, как и форма, зачастую пропускается через призму социального. Новые импровизационные и композиторские стили часто ассоциируются с идеалами расового освобождения и, что более важно, воспринимаются как средство сопротивления экономическому и социальному угнетению чёрных доминирующей белой американской культурой.
Жесткое и бескомпромиссное движение так называемого бибопа вынесло эту тему сопротивления на международную арену. Оказав влияние на музыку всего мира, это движение бросило как скрытый, так и явный вызов западным представлениям о структуре, форме и музыкальной выразительности. В Соединенных Штатах вызов бибопа, проявившийся в музыке Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Телониуса Монка, Бада Пауэлла и Кенни Кларка, фактически обязал доминирующую европейско-американскую культуру всерьез считаться с афрологической эстетикой.

Боперы, как и предыдущее поколение джазовых импровизаторов, использовали тему или предварительно отобранный мелодический материал, как отправную точку всей пьесы. Однако бибоповые темы, как отмечает Гридли, «мало походили или совсем не походили на то, что среднестатистический слушатель привык слышать ранее». Идя по пути абстрактного, импровизаторы-боперы не связывали себя обязательствами использовать мелодический материал темы для трансформации его в импровизации. Вместо этого основой для импровизации стала основополагающая гармоническая структура [темы], обычно подвергаемая импровизаторами существенной переработке. Зачастую этот гармонический материал был заимствован из популярных мелодий, тем самым связывая эту музыку с более ранними джазовыми стилями. Музыканты часто лишь обозначали мелодии, заменяя оригинальную мелодическую линию на другую, а затем присваивая новой пьесе ироничное название в пику коммерческой музыкальной индустрии того времени и доминирующей культуре, её произведшей.
Породив модели индивидуального и коллективного творчества, заимствованные и обогащенные импровизаторами последующих поколений, бибоп поднял ставки в спорах о культурной принадлежности, выведя их на новый уровень. Контуры этих моделей хорошо описаны Уолтоном, который характеризовал бибоп как требующий «сосредоточенного слушания, позволяющего расширять самого себя через символическую коммуникацию с исполнителем». Более того, благодаря обширной импровизации каждое новое исполнение «пьесы» в бибопе может стать уникальным, во многих отношениях отличаясь от предыдущего. Даже во многих нынешних ответвлениях афроамериканской импровизационной музыки, в их генеративных и интерактивных аспектах взаимоотношений импровизатора и слушателя угадываются черты, присущие импровизациям бибопа.
Вызов бибопа доминирующей культуре не ограничивался лишь музыкальными аспектами; фактически музыканты бибопа бросили вызов традиционным представлениям о собственно музыкальном и внемузыкальном. Композитор и импровизатор Энтони Брэкстон замечает, что «бибоп был связан с пониманием действительного положения чернокожих в Америке». Фрэнк Кофски цитирует блюз Лангстона Хьюза, указывающий на происхождение слова «бибоп»: «Полиция бьёт негров по головам… это старая дубинка говорит: «БOП! БОП!…БИБОП!… Вот откуда появился Бибоп, выбитый из голов некоторых негров в их дудки».
В книге «Люди блюза» Амири Барака (тогда ещё Лерой Джонс) утверждает, что бибоп «представлял собой нечто большее, чем случайное следствие социального переворота, с ним ассоциировавшегося». Для боперов этот переворот имел огромное значение для самоопределения, обретения своей роли творцов музыки. Хотя джаз всегда балансировал между высоким концертным (в западном понимании) искусством и развлечением, между коммерческим и экспериментальным, оспаривание устоявшегося стереотипа развлекательной роли джазмена породило новые возможности для развития афроамериканской импровизационной музыки, заявившей о себе как о безусловно экспериментальной.
Этот радикальный пересмотр позиций расценивался как прямой вызов, по сути, всему социальному порядку 1940-х годов — времени господству апартеида в Америке. «Молодой негритянский музыкант сороковых начал понимать, что просто быть негром в Америке уже означало быть нонконформистом» (Лерой Джонс). Действительно, этих музыкантов часто называли «сумасшедшими», как часто называют оппозиционеров либо угнетатели, либо те из угнетенных, которые, каким бы бедственным не было их нынешнее положение, боятся последствий перемен.
Джон Кейдж
В эссе, посвященном исследованию импровизации, теоретик Карл Дальхаус предлагает пять характеристик, которые должны присутствовать в музыкальном произведении, чтобы назвать его композицией. Эти характеристики связаны воедино неким логическим венком, разнообразные формы которого я буду рассматривать.
Согласно Дальхаусу, композиция, во-первых, представляет собой самостоятельную, завершенную структуру («ein in sich geschlossenes, individuelles Gebilde»). Во-вторых, эта структура должна быть полностью сочинена («ausgearbeitet»). В-третьих и
То, что эти пять характеристик определяют понимание композиции в европейском смысле, у Дальхауса видно в нескольких пунктах. Диалектическое единство композиции и нотации, согласно Дальхаусу, является непременным условием для определения самой композиции. Композиции, которые сочинены без нотирования, по Дальхаусу не являются ни композицией, ни импровизацией. Дальхаус, однако, не раскрывает своего взгляда на то, как может называться подобный гибрид или каким образом такая музыка может быть описана с помощью выдвинутых им теоретических установок.
Признавая, что его определение исключает множество образцов неевропейской музыки, Дальхаус утешает читателя мыслью, что некоторые вещи просто таковы, каковы они есть: «Историк, стесняющийся описывать образец неевропейской музыки как композицию, тем самым обесценивает её, сам того не понимая». В любом случае, учитывая ограниченный характер теории Дальхауса, ничто не мешает характеризовать эту теорию как типично еврологическую.
Произведения Джона Кейджа явно противоречат этому фиксированному понятию композиции. Как и в случае Чарли Паркера, деятельность Кейджа и его соратников — Крисчена Вольфа, Дэвида Тьюдора, Мортона Фелдмана и Эрла Брауна — не только оказала глубокое и широкое воздействие на музыку, литературу и визуальные искусства, но также повлияла на социальные и культурные сферы. Музыкальные и теоретические труды этих композиторов характеризуются кардинальным пересмотром еврологической композиции; сущность этого пересмотра в значительной степени сводится к возрождению еврологических моделей создания музыки в реальном времени, часто достигая при этом эффекта импровизационности.

Именно Кейдж и его последователи ответственны за введение в историю музыки термина «индетерминизм» (т. е. «неопределенность»). В эссе Кейджа о неопределенности «Silence» («Тишина») представлены примеры «индетерминистских» элементов европейской музыки последних двух столетий — от Klavierstiick XI Карлхайнца Штокхаузена до «Искусства фуги» И.С. Баха. Согласно Кейджу, отсутствие в произведениях Баха указаний тембра и динамики позволяет расценивать эти элементы не как отсутствующие, а именно как неопределенные (т. е. индетерминистские) — их конкретику определяет исполнитель. Наличие индетерминистских элементов в произведениях Баха, согласно Кейджу, создает «возможность появления уникальных обертоновых структур и динамического диапазона при каждом исполнении». Функция исполнителя в этом случае «сравнима с заполнением цветом заранее очерченных контуров».
Более поздние описания индетерминизма, например, представленные Эллиоттом Шварцем и Дэниелом Годфри (1993) в тексте их опроса «Музыка после 1945 года», определяют музыкальный фактор как неопределенный, «если он проявляется случайным образом и действует без
Другой вклад Кейджа в композицию и импровизацию — радикальное использование этих «случайных операций» (chance operations). В «Музыке перемен» (1951) Кейдж использовал древний китайский метод, известный как И Цзин или [гадание на] «Книге перемен», для генерирования музыкального материала на основе предписанных композитором параметров. Результатом, как сам композитор описал метод, использованный в «Музыке перемен», является создание «музыкального произведения, сущность которой свободна от индивидуального вкуса и памяти (психологии), а также от литературы и традиций искусства». В этой связи Кейдж последовательно утверждает, что «звуки должны представлять самих себя, а не использоваться для выражения чувств или идей».
Кейдж, будучи, очевидно, не первым, кто обнародовал концепцию экспериментального в музыке, в своем важном манифесте «Тишина» представил несколько действенных определений термина «экспериментальная музыка». Композитор утверждал, что «экспериментальное действие — это то, что приводит к непредсказуемому результату» и «обязательно уникально». На представления Кейджа о спонтанности и уникальности повлияло его приобщение к философии дзен, в частности, посещение им лекций Дайсецу Сузуки в начале 1950-х годов в
Тот факт, что такой взгляд на музыку будет иметь социальные последствия, был полностью признан самим Кейджем. Действительно, социальные и философские взгляды Кейджа составляют существенную часть литературы о нем. В интервью Костелянеца 1987 г. Кейдж непосредственно рассматривает свой собственный анархизм с нескольких позиций. Связывая свои взгляды на звук с собственным анархизмом, композитор выражает свою потребность в «музыке, в которой не только звуки просто звучат, а в той, где люди — это просто люди, а не некие субъекты, подчиняющиеся законам, установленным любым из них, будь то «композитор» или «дирижер»… Свобода передвижения является основной и для искусства, и для общества».
Однако понимание общественных механизмов у Кейджа не связывает это очень американское понятие свободы — возможно, мифологизированное — с любым видом борьбы, требующейся, чтобы эту свободу обрести. Композитор отрицает пользу протеста, утверждая: «Мое представление о том, как действовать в обществе, чтобы изменить его, — это не протестовать против зла, а скорее, позволить ему умереть собственной смертью…. Протесты против него (зла), в противоположность сказанному, лишь дают ему жизнь, будто огню, разгорающемуся всё больше, когда вы пытаетесь его задуть, и лучше всего игнорировать его, обратить ваше внимание на иное, предпринять иные позитивные действия».
В социальном плане творчество таких композиторов, как Кейдж и Фельдман, является неотъемлемой частью мира искусства, глубоко связанного с интеллектуальными и музыкальными традициями Европы. Принадлежащие к этому миру искусства, подвергая критике особенности современной европейской культуры, в то же время были прямо заинтересованы в продолжении развития этой «западной» традиции на американском континенте. В эссе «История экспериментальной музыки в Соединённых Штатах» Кейдж упоминает ряд удовлетворяющих его взглядам деятелей искусств — европейцев и американцев, включая европейских дадаистов, композиторов, таких как Дебюсси и Варез, а также поздних европейских экспериментаторов — Пьера Булеза, Карлхайнца Штокхаузена, Луиджи Ноно и Лучано Берио. Среди американских композиторов, являющихся, согласно Кейджу, частью «богатой истории» Америки, им упоминаются Лео Орнштейн, Дэн Рудъяр, Лу Харрисон, Гарри Парч и Вёрджил Томсон.
В то время как эти и другие композиторы действительно удостаиваются внимания Кейджа, единственная коренная музыка, к которой Кейдж демонстрирует острую неприязнь, — это афроамериканская музыка, которую он часто называет «горячим джазом» (hot jazz). Критикуя интерес Генри Кауэлла к этой и другим афроамериканским музыкальным традициям, Кейдж, демонстрируя распространённый в то время взгляд на противоположность джаза «серьёзной» музыке, изрекает: «Джаз сам по себе происходит от серьезной музыки. А когда серьезная музыка заимствует от него, ситуация становится довольно глупой».
Можно допустить что реплика Кейджа о происхождении джаза носит скорее риторический, нежели исторический, характер. В любом случае, несмотря на такие заявления, как «мир сейчас — это единый мир» или «когда я думаю о хорошем будущем, у него наверняка есть музыка, но она не
Однако композитор учитывает тот факт, что другие также могут очерчивать разные границы: «Я прекрасно себя чувствую без
Оценки
Несмотря на пренебрежительное отношение Кейджа к джазу, история показывает, что творческий метод Кейджа, основанный на спонтанности и уникальности и не встречавшийся ранее до Кейджа в американской и европейской музыке, появился на
Содержательное заявление композитора Энтони Брэкстона о пренебрежении афрологическими формами в мире искусства, которым подпитывался Кейдж в своем творчестве, прямо обнаруживает существенную проблему: «Алеаторика и индетерминизм — слова, придуманные для того,… чтобы обойти слово «импровизация» и, по существу, избежать влияния небелой [в расовом понимании этого слова] чувственности». Причина, по которой импровизация и небелая чувственность — явления, которые следовало бы избегать, может быть успешно изучена, если принимать во внимание расовые отношения.
Ряд учёных, такие как
И Липшиц, и Харрис прибегают к экономическим терминам при описании роли «белизны». Харрис прослеживает эволюцию сущности «белизна» как формы законно приобретенного имущества, в то время как Липшиц ссылается на «инвестирование собственности в белизну». Цитируя теоретика юриспруденции Кимберли Креншоу, Харрис использует язык инвестиций, описывая «непосредственное участие в расизме», наличествовавшее еще в ранних балкано-европейских этносах (вероятно, имеются в виду древние Греция и Рим — прим.пер.) — имеются в виду юридические и социальные привилегии, закрепленные за теми, кого принято классифицировать как «белых».
Для Фиске «белизна есть не особая расовая категория, содержащая набор фиксированных смыслов, а стратегия установления власти… Пространство белизны содержит ограниченный, но разнообразный набор нормативных положений, из которых следует, что всё, не являющееся белым, расценивается как отклонение от нормы; таким образом, белизна утверждает себя как универсальный набор норм, с помощью которых осмысливается окружающий мир». Основной характеристикой белизны Фиске считает «эксноминацию» (т. е. освидетельствование, экспертную оценку — прим.пер.). «Эксноминация — это средство, с помощью которого белизна избегает собственного упоминания, оставаясь таким образом вне рассмотрения и, как следствие, не подвергается изменениям. Одна из практик эксноминации — избегать саморазоблачения и самоисследования. Для белых процесс исследования всегда направлен вовне на неких “других”, но никогда не направлен внутрь, на самого исследующего».
Моё утверждение заключается в том, что в силу определенных обстоятельств бибоп с его спонтанностью, структурным радикализмом и стремлением к уникальности, опередив на несколько лет возрождение импровизации в еврологической музыке, бросил этой музыке вызов, требующий ответа. Слишком часто пространство «белизны» создавало удобную платформу для расистского отрицания остроты этого вызова, акцентируя внимание лишь на специфике восприятия, которую я называю еврологической.
Антрополог и импровизатор Джорджина Борн описывает подобный случай: «Некоторые основные элементы экспериментальной музыкальной практики — импровизация, коллективная творческая деятельность, использование «живой электроники» впервые появились в джазе и роке 1950-60-х годов. Более того, политика экспериментальных коллективов очень близка политике прогрессивных чёрных джазовых музыкантов шестидесятых. К примеру, музыкальный коллективизм уже присутствовал в сообществе чикагских черных музыкантов — Ассоциации по продвижению творческих музыкантов (ААСМ), став моделью для последующих музыкантских сообществ. Тот факт, что эти влияния часто остаются непризнанными и замалчиваются даже в сфере экспериментальной музыки, демонстрирует нежелание постмодернистской сферы актуальной музыки признать, что своим происхождением она обязана культуре «иных».
Социолог Говард Беккер, используя пример из джаза, определяет данную систему как полезную для мира искусства с точки зрения конкуренции и доступности ресурсов: «Он (джаз) связывает деятельность его представителей с традицией искусства, оправдывая их притязания на ресурсы и привилегии, обычные для всех людей искусства. Выражаясь точнее, если я могу уверенно утверждать, что джаз заслуживает такого же серьезного внимания, как и другие эстетически значимые музыкальные направления, то, будучи джазовым музыкантом, я могу претендовать на гранты и стипендии Национального фонда искусства, на должность преподавателя в музыкальных учебных заведениях, играть в тех же залах, что и симфонические оркестры, и требовать такого же внимания к тонкостям моей работы, которого удостаиваются самые серьезные классические композиторы».
В транснациональной, транскультурной музыкальной среде, где обмен музыкальной информацией становятся все более обыденным, этнические или расовые категории в классификации музыкального дискурса если и не демонстрируются явно, то, во всяком случае, присутствуют. Сторонники определенных эстетических систем редко столь откровенно, как Беккер, заявляют о расовых и классовых основаниях, чаще предпочитая оказывать поддержку одним музыкальным направлениям и отказывать в ней другим, используя термин «объективность». Вопреки утверждению [Амири] Бараки о том, что бибоп, являясь афроамериканской музыкой, вынудил широкую общественность признать за черной творческой музыкой с её афрологической эстетикой право называться искусством, тот факт, что и Паркер, и Кейдж демонстрировали экспериментальную направленность соответствующего им творческого метода, до сих пор не побудил музыковедов — авторов работ об «американской музыке после 1945 года» — к тому, чтобы рассматривать достижения обоих этих музыкантов как подлинно экспериментальные.
Вместо этого тексты, использующие понятие «экспериментальная музыка», причисляют к таковой лишь определенную группу послевоенных композиторов, чьё творчество основано почти исключительно на европейском или евроамериканском наследии. Показательна в этом отношении книга Майкла Наймана «Экспериментальная музыка» (1974). Эта работа, как и многие другие, представляет эту группу композиторов как интеллектуальных наследников того, что широкой публике известно под названием «классическая» или «западная» традиция — даже в тех случаях, когда эта традиция подвергается критике со стороны её наследников.
Качественные прилагательные к слову «музыка» — такие, как «экспериментальная», «новая», «художественная», «концертная», «серьезная», «авангардная» и «современная» — используются в подобных текстах для того, чтобы ограничить расовую область этой традиции рамками белизны; и замалчивание, и беглое упоминание афрологической музыки в равной степени обрамляется тут «объективной» таксономией. Краткая отсылка к Art Ensemble of Chicago в тексте Шварца и Годфри «Музыка после 1945 года», к примеру, была необходима, «поскольку их музыка была столь же “серьёзной» или авангардной, сколь и джаз». Цитата демонстрирует, какое место отведено «белизной” творчеству Art Ensemble of Chicago — как бы они не настолько «иные», как все остальные из иных.
Импровизаторы-теоретики Малькольм Гольдштейн (1988) и Дерек Бэйли (1992) исследуют снижение роли импровизации в европейской музыке, а затем почти полное её исчезновение в девятнадцатом веке. Оба автора ссылаются на примерно стопятидесятилетний пробел в истории импровизации в Европе — с конца восемнадцатого по середину двадцатого века. Наряду с другими работами, посвященными еврологической импровизационной музыке, композитор и теоретик Дэвид Коуп всё же считает нужным упомянуть, что, несмотря на очевидный пробел в истории импровизации, последняя действительно являлась частью истории европейской музыки.

В частности, Коуп ссылается на две давно уже забытые музыкальные практики — использование цифрованного баса и импровизированные каденции — чтобы убедить читателя в том, что импровизация действительно имеет давние традиции в европейской музыке. Третье важное течение в европейской импровизации — немногочисленная, но стойкая французская школа импровизаторов-органистов, в работе Коупа не упоминается. Бейли, описывающий импровизацию в различных мировых музыкальных культурах, определяет эту группу как единственно активную в плане использования импровизации в европейской музыке с конца восемнадцатого по середину двадцатого столетий.
В любом случае, выжившие или сохранившиеся традиции импровизирования в современной еврологической импровизации только начинают изучаться. Имеющиеся свидетельства об этих реликтах не слишком хорошо документированы и известны, чтобы служить историческим или культурным базисом для возрождениии импровизации в еврологической музыке в середине 1950-х. В этой связи осторожная ремарка Коупа о том, что «обстоятельства, при которых развилась более поздняя импровизация, менее ясны… В текущем столетии это могло быть вызвано интересом к джазу» можно рассматривать как прекрасную иллюстрацию замечания Борна о нежелании исследователей еврологической музыки отдать должное музыке «иных».
Олицетворяя собой то, что у Фиске и Борна названо «эксноминацией белизны», текст Коупа тщательно избегает подробного, серьезного изучения творчества крупных фигур послевоенной афрологической импровизации, уделяя существенное внимание тому, что называется «современной» импровизацией. Импровизаторы мирового уровня — [Чарли] Паркер, [Джон] Колтрейн, [Сесил] Тейлор и [Орнетт] Коулман — удостаиваются в лучшем случае лишь упоминания вскользь, в то время как деятельности не вполне понятных персонажей, чьи письменные описания их импровизаций количественно превосходят их аудиодокументацию, посвящены целые страницы.
Читателю предлагается предположить, что такая «современная» импровизация, несмотря на то, что ряд ее сторонников «был или до сих пор связаны с джазом», должен был разработать некую уникальную концепцию импровизации практически с нуля. Согласно Коупу, самым вероятным происхождением такого рода импровизации заключается не в
Джаз как эпистемологически «иной»
Современное еврологическое музыковедение, фактически стирая представителей афрологической импровизационной музыки из послевоенной истории «современной» музыки, несмотря на это, считает нужным анализировать структурные составляющие «джаза». Такие исследователи предпринимают попытки сотворить то, что социологи Сомерс и Гибсон обозначили термином «эпистемологически иные». Согласно Сомерсу и Гибсону, общественные группы часто складываются в подобные структуры, чтобы «сплотиться на почве самоидентификации и коллективных устремлений».
Эпистемологически иное можно рассматривать как контрпозитивную форму белизны, особенно когда речь идет о скрытых призывах к расовой и этнической солидарности. Критика Джона Кейджа в адрес джаза, высказанная в его интервью джазовому критику Майклу Зверину в 1966 году, имеет относительно небольшую ценность как музыкальная критика, но может служить хрестоматийным примером силовой критики, описанной Фиске. Отвечая на вопрос Зверина о том, что он думает о джазе, Кейдж сказал: «Я не думаю о джазе, но люблю поговорить, так что, конечно, давайте поговорим». Для афроамериканского аналитика образца 1990-х годов интервью наверняка на этом бы и закончилось. В ситуации же 1960-х, однако, мы присутствуем при силовом варианте разговора, когда два белых мужчины собираются обсуждать «проблемы чёрных», не опасаясь, благодаря господству апартеида в
Общение между Кейджем и Звериным, как и упоминание Шварцем и Годфри Art Ensemble of Chicago, демонстрирует суть белизны во всей красе. Зверин, казалось бы, говоря от имени джаза, в конце концов соглашается с Кейджем о том, что джазу следовало бы ещё проделать некую работу. Творчество чёрных музыкантов характеризуется белизной как примитивное (но всё улучшающееся) творчество детей. «Но джаз ещё молод и всё ещё развивается», джаз мог бы выиграть от серьезного изучения «наших» моделей; он уже начал изучать структуры, «предложенные Айвзом»; «джаз становится свободным», используя различные звукоряды, и «уходит от ритмической регулярности, нарушая её, а не вколачивая её в вас постоянно», и т. п.
В этой неприкрытой, с шашкой наголо, атаке на чёрную музыкальную культуру, и назначение Звериным Кейджа на роль эстетического арбитра, и благосклонное принятие Кейджем этой роли служат утверждению белизны в качестве эталона нормы, которым поверяется всё иное. В то же самое время «аргументы», выдвинутые обоими против афрологической музыки, изложены в якобы «объективных» музыкальных терминах, тем самым притягивая их значение к понятиям белизны. Более того, процедура недопущения или сдерживания проникновения в СМИ альтернативных голосов, особенно голосов черных, гарантировала, что ни более достойный противник, ни более широкий набор тем — таких, как ответная критика еврологических форм — не будут представлены. Как лаконично, но глубокомысленно выразился Колтрейн в ответе Кофски о критике в СМИ: «Я не высказываюсь».
Джаз, очевидно, и вправду являлся мощной силой в послевоенной импровизационной музыке, коль скоро такое множество последователей еврологической импровизации так или иначе спешат от него откреститься. В этой связи непрекращающаяся критика джаза со стороны последователей еврологии может быть расценена как часть коллективного проекта реконструкции еврологического метода создания музыки в реальном времени. Эта реконструкция вполне может требовать сотворения «иных» — через негативные реакции к уже существующим моделям импровизационной музыки.
Действительно, избегание джаза и его преображение в форму эпистемиологически иного явно служат определяющей моделью для оживления множества проектов по разработке еврологических методов импровизации. Например, в 1955 году европейский композитор Лукас Фосс собрал группу «неджазовой» (по Шварцу и Годфри) коллективной импровизации. Помимо этого, ряд первых послевоенных европейских и евроамериканских импровизаторов, творивших в еврологических формах, были в прошлом джазовыми музыкантами. Британские импровизаторы — основатели фри-импров-группы АММ — детально описывали необходимость порвать с «чересчур узнаваемой стилистикой американского джаза», который они играли ранее. Американский композитор Ларри Остин, делясь своим опытом групповой импровизации начала 1960-х, описывает свою группу как «сознательно исключавшую любое откровенное джазовое высказывание». Вероятно, по признанию Остина, эта попытка освобождения от джаза для части его импровизационного коллектива не увенчалась успехом; в группе Фосса следы джаза или афрологических влияний так и продолжали проявляться.
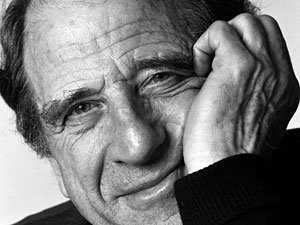
Однако, несмотря на эти весомые аргументы, исследования, посвященные этому периоду еврологической музыки, тщательно стараются избавить читателя от любого намека на то, что джаз оказал хоть какое-то влияние на «современную» импровизацию или индетерминизм. Эти исследования, несмотря на кажущиеся старания их авторов рассадить импровизацию и индетерминизм за разные столы, всё же обсуждают оба этих явления в одной главе, связывая их таким образом воедино.
Энциклопедическое исследование Пола Берлина, посвященное творческому процессу в джазе, акцентирует внимание на гармонических последовательностях или «прогрессиях», служащих основой для импровизации. Автор утверждает, что гармоническая последовательность или «прогрессия» служит для импровизаторов «дорожной картой, позволяющей мелодии следовать верным курсом» — весьма близко уже упомянутому утверждению Кейджа о функции исполнителя в индетерминизме, сводящейся к «заполнению очерченных контуров цветом». Из этого можно предположить следующее: подобно тому, как операции со случайностями представляют собой метод реализации индетерминизма, сам индетерминизм может быть классифицирован как один из методов реализации импровизации. С этой точки зрения, несмотря на осторожное утверждение Коупа о том, что «одним из основных предшественников индетерминизма в музыке может быть импровизация», индетерминизм вполне может быть не преемником импровизации, а ее разновидностью.
Спонтанность
Спонтанность — важная ценность для импровизаторов, работающих как в еврологической, так и в афрологической парадигмах, хотя определение спонтанности, очевидно, в разных традициях различно. Вторя Кейджу, Шварц и Годфри утверждают, что результат музыкального опыта, полученный индетерминистскими средствами, должен быть «непосредственным, спонтанным и уникальным: ритуальное празднование, а не фиксированный арт-объект, скованный заранее разработанными предписаниями или смирительной рубашкой нотации».
Понятия уникальности и непредвиденные, однако, едва ли сами по себе уникальны для еврологического индетерминизма. Как заметил саксофонист Стив Лейси, «у вас есть все ваши годы подготовки, и ваше восприятие, и ваши наработки, но это всё равно скачок в неизвестность». Многие критики подчеркивали, что уникальность импровизации высочайшим образом ценилась афроамериканскими импровизаторами. Берлинер приводит высказывание трубача Дока Читэма, чья деятельность охватывает пред- и послевоенное время, о способности Армстронга и других близких к нему в плане творческих способностей «играть пятнадцать или тридцать разных квадратов, и ни один из них не будет повторять любой другой… Каждый раз, когда они играют мелодию, их соло звучит по-новому». Подобным образом высказывался Колтрейн, изумляясь тому, как Гиллеспи каждый раз играл новое вступление к пьесе «Я не могу начать».
Несмотря на заявления этих и других опытных импровизаторов, вошедших в историю благодаря их уникальности и новаторству, ряд композиторов и теоретиков, представляющих еврологию, высказывают о той же самой музыке совершенно иные мнения. Так, когнитивный психолог Джон Слобода утверждает, что джазовые импровизаторы используют «модель, которая в большинстве случаев диктуется внешними культурными влияниями». Лукас Фосс утверждал, что в импровизации «играют то, что уже известно».
Эта точка зрения, в определенных кругах возведенная в статус общепринятой мудрости, аналогична утверждению Шварца и Годфри о том, что «индетерминизм Кейджа следует отличать от импровизации, поскольку последняя ведет к известному финалу». Собственное утверждение Кейджа о том, что «в импровизации, как правило, играется то, что уже известно», естественно, приводит его к заключению о том, что импровизация «не приводит вас к новому опыту».
Когнитивный психолог Филипп Джонсон-Лэрд излагает одну из версий этой общепринятой мудрости в виде теории «мотивов». Согласно теоретическим построениям Джонсона-Лэрда, джазовые импровизаторы привыкли использовать набор заученных мотивов, которые «нанизаны друг на друга один за другим, формируя импровизацию». Метафора ученого относительно импровизации вкупе со взятой им за основу при анализе соло стиля бибоп теории генеративной грамматики сравнивает импровизацию с речью. И эта аналогия с речью приводит Джонсона-Лэрда к тому, что он подвергает сомнению правомочность теории мотивов: «Дискурс был бы невыносимо сложным, если бы он состоял исключительно из обрывков фраз, апеллирующих к памяти. Это бы напоминало этакий неловкий беспорядок фраз, будто кто-то пытается говорить на иностранном языке, пользуясь лишь разговорником».
Далее Джонсон-Лэрд спрашивает: «Что убеждает нас в том, что теория мотивов неверна?… Во-первых, кто-то должен придумать эти мотивы. Если музыкант впервые играет тот или иной мотив, то он не может просто извлечь его из памяти». Джонсон-Лэрд приводит ещё две причины необоснованности этой теории: «Анализ обширного массива импровизаций [джазовых] музыкантов показывает, что множество фраз встречается лишь один раз. В-третьих, держать в памяти огромное число мотивов, чтобы построить из них качественные соло, слишком затратно, чтобы счесть такой способ практичным».
Теория мотива, как в ее научных, так и в обиходных версиях, отказывает импровизации в творческом импульсе и новаторской спонтанности. Например, Дальхаус, рассматривая импровизацию с точки зрения этой теории, указывает на противоречивость утверждения о том, что импровизация «с одной стороны собрана из формул, а с другой стороны спонтанна». Теория мотивов с её преувеличением роли памяти в афрологической импровизации, весьма часто используется критиками, часто под воздействием воззрений Джона Кейджа на импровизацию как о чисто спонтанном акте, не опирающемся на память. Композитор и теоретик Ларри Соломон, например, определяет «фундаментальный идеал» импровизации как «спонтанное изобретение оригинальной музыки , происходящее одновременно с её исполнением, без предварительного обдумывания, письменного фиксирования или концепции».
Понятие о спонтанности, исключающей обращение к памяти, оказалось похороненным в недрах еврологического определения импровизации. В этой связи «настоящая» импровизация часто обязывают избегать отсылок к «известным» стилям. Среди таких «известных» стилей «джаз» упоминается чаще всего — вероятно,
[Дерек] Бейли рассматривает проблему связи импровизации с «известными» стилями, проводя различия между «идиоматической» и «неидиоматической» импровизациями. Этот подход, однако, допускает, что «подлинная» импровизация возможна в обоих случаях; при этом упоминание об исторических и культурных связях при определении спонтанности избегается: «Идиоматическая импровизация… в основном связана со следованием идиоме — например, джазу, фламенко или барокко — и заимствует свою индивидуальность и мотивацию из этой идиомы. Неидиоматическая импровизация преимущественно встречается в так называемой «свободной» импровизации и, хотя она может быть весьма стилизованной, обычно не демонстрирует идиоматическую идентичность».

С позиций еврологии, появление случайностей во время игры становится важным методом избегания в импровизации «известных» моделей. Соломон считает, что импровизация «опирается на контроль исполнителя и интуицию, но также включает в себя и случайность как путь к поискам и открытиям». Шварц и Годфри ссылаются на «прихоть, волю и случай» как способствующие ощущению непредсказуемости. [Лучано] Берио определяет джазовую импровизацию как «постоянное исправление небольших ошибок, постоянную пристрелку к цели, которая по самой своей природе никогда не бывает абсолютно понятной и определенной».
Внимательное прослушивание и анализ импровизационной музыки, как и любой другой, требует внимания к разным уровням информации. Таким образом, каждая из многочисленных изданных аудиозаписей, например, «Гигантских шагов» Колтрейна, рассматриваемых на уровне отдельных её элементов, является результатом тщательной подготовки — «ausgearbeitet». В то же время каждая импровизация как единое целое демонстрирует уникальность и спонтанность.
Еврологическое понимание чистой спонтанности не учитывает этот временной многослойный аспект импровизации. Поверхностно рассматривая сиюминутную спонтанность, незапятнанную связями с прошлым или будущим, оно сводит импровизационную спонтанность, возможную исключительно в настоящем, до уровня эфемерности. В своём предельном выражении такое понимание спонтанности требует, чтобы импровизация звучала лишь раз и никогда больше не проявлялась ни в какой форме. Настойчивое утверждение Соломона о том, что записанная импровизация «после её повторения больше не является импровизацией», сужает коммуникацию между исполнителем и слушателем до бесконечно малого, подобного точке в евклидовой геометрии, исключая из неё как прошлое, так и будущее.
Однако многие переслушивают некоторые аудиозаписи импровизаций буквально тысячи раз. Эти записи давно уже у них в сердцах, но, даже спустя многие годы, они спонтанно обнаруживают в них новые смыслы. Хотя выученная импровизация, сыгранная нота в ноту, совершенно предсказуема, эти записи часто предстают в новом свете, когда их слушают спустя продолжительное время. Более того, импровизаторы — как и любой потенциальный слушатель — сами слышат свою музыку; в этом смысле опыт импровизатора и слушателя идентичен. Возвращаясь к Уолтону, исследовавшему роль эмпатии при прослушивании импровизаций, кажется очевидным, что слушатель, идя иной дорогой, также импровизирует, испытывая сиюминутность как часть слушательского опыта.
Стремление лишить музыку памяти и истории, как к тому призывает Кейдж и его последователи, можно рассматривать как специфику послевоенного времени. С исторической точки зрения, исчезновение импровизации из европейской музыки в девятнадцатом — начале двадцатого веков, кажется, исключает прецеденты еврологической импровизации. В такой атмосфере акцент послевоенных модернистов типа Кейджа на «настоящем», исключающем обращение к памяти и истории, представляется естественным откликом на невозможность обнаружить подобные прецеденты теми, для кого сохранение чистоты европейской музыки является приоритетом номер один.
Это порождение исторических условий, более того, можно рассматривать не только с точки зрения характерного для послевоенного модернизма стремления создать новое посредством, как отмечает Борн, «отрицания принципов традиций прошлого», но
Импровизационная музыка
Академический пианист Милдред Портни Чейз писал о ценности импровизации для композиторов, исполнителей и обучающихся музыке, в особенности детей. Исполнителям нотированной музыки, для которых «большая часть изучаемой музыки принадлежит другому времени и месту», импровизация может принести «моменты вдохновения, подобные тем, которые испытывают величайшие композиторы, даже если сравнение на этом и заканчивается». Композиторам импровизация также может помочь открыть «каналы его музыкального потока сознания…, позволяя себе всё, что угодно, он может открыть глубочайшие уровни своей музыкальной индивидуальности, похороненные его сознанием».
Хотя Милдред Чейз и подвергает сомнению исторически сложившиеся в европейской музыке отношения между композитором и исполнителем, её книга, главы которой названы «К пианисту», «К композитору» и т. д., квалифицирует импровизацию как нечто свойственное композитору и исполнителю — не стопроцентную комбинацию этих двух сфер, но
Фактически термин «импровизационная музыка» возник примерно после 1970 года. Я бы определил импровизационную музыка как некое общественное место, в котором пребывает значительное число сегодняшних музыкантов с разным культурным бэкграундом, для которых импровизация является существенной составляющей их деятельности. Любой импровизатор теперь может пользоваться завоеваниями многих культур, техник, стилей, эстетических и социальных практик.
Публикации в СМИ, научные сочинения и другая литература о таких музыкантах, как правило, объединяют их в разряд «импровизированной музыки», используя этот термин как универсальный для множества музыкальных форм. Бейли (1992) написал, пожалуй, самое проницательные эссе на тему того, что есть импровизированная музыка (для него) и как она развивалась.
Деятельность музыканта-импровизатора включает в себя не только структуры и техники, но и его образ жизни, а также культурные, этнические и географические условия его бытования. Сам процесс импровизирования изначально предполагает привлечение широчайшего круга мировых музыкальных систем. Фокус музыкального дискурса резко расширяется от индивидуального творчества к коллективному; индивидуум выступает здесь в качестве представителя всего человечества.
Чтобы отделить импровизационную музыку от попыток еврологии «инкорпорировать» импровизацию, «использовать» её, а также от индетерминизма и алеаторики, необходимо отбросить упрощающие положение дел расистские таксономии, подобные упомянутым в работах Наймана и Коупа. Необходим более тонкий взгляд на импровизационную музыку как на музыку, обладающую богатым спектром характеристик, включая индивидуальные, социальные и межкультурные, не исключая из этого ряда и связи с народной и популярной музыкой.
По моему мнению, в импровизационной музыке совершенствование импровизатора осуществляется не только через развитие собственной музыкальности, но также и через установление гармонии этой персональной музыкальности с социальной средой, как с актуальной, так и с возможной. Подобный акцент на личностном и является признаком сильного влияния афрологического начала на импровизационную музыку.
Одной из важных моделей импровизационной музыки является «открытая» импровизация, практикуемая членами Ассоциации по продвижению творческих музыкантов (AACM) — коллектива афроамериканских музыкантов, широко известного благодаря разнообразию инновационных музыкальных идей, выдвигавшихся его членами уже с момента его создания в 1965 году на юге Чикаго, почти полностью заселенном черными. Вместе с «Группой чёрных музыкантов», образовавшейся в
Среди импровизаторов-композиторов AACM — пианист Мухал Ричард Абрамс (основатель организации); саксофонист Фред Андерсон; мультиинструменталист Даглас Эварт; Art Ensemble of Chicago; саксофонисты Энтони Брэкстон, Генри Тредгилл и Эдвард Уилкерсон; барабанщик Кахил Эль-Забар; пианист Амина Клодин Майерс; скрипач Лерой Дженкинс; трубач Вадада Лев Смит, а также тромбонист — автор этой статьи. Часто сотрудничали с ААСМ пианист Энтони Дэвис, саксофонист Дэвид Мюррей и флейтиста Джеймс Ньютон.

«Модель AACM» акцентирует внимание на фигуре композитора-импровизатора и отстаивает право афроамериканских музыкантов на самоидентичность, достойное существование и продуктивное творчество: «Черные творческие люди должны выжить и преуспеть, несмотря на расовый гнет, мешающий чернокожим достигать своих целей наравне с остальными американцами. Мы должны вносить обильный вклад в и без того обширную копилку творческих богатств, пополняемую веками. Чернокожие деятели искусств должны получать деньги за свой труд и контролироваться ими произведенное, равно как и контролировать дистрибуцию своих произведений».
Еще одна важная, но совершенно иная модель «импровизированной музыки» практикуется представителями европейской «свободной» импровизации; это контрабасистка Жоэль Леандр, гитарист и теоретик Дерек Бэйли, басист Барри Гай, пианисты Миша Менгельберг, Александр фон Шлиппенбах и Ирен Швайцер, перкуссионист Пол Литтон, вокалисты Мэгги Николс и Фил Минтон, мультиинструменталист и композитор Линдси Купер, саксофонисты Питер Брёцманн и Эван Паркер. Обладая различным бэкграундом, эти музыканты часто смешивают персональный нарратив, близкий к афрологическому, со звуковыми моделями, характерными для последних нескольких столетий европейской музыки.
Европейская модель уделяет значительное внимание социальной роли импровизации. Бейли весьма ясно указывает на это: «Импровизации нет необходимости защищать себя. Она существует потому, что удовлетворяет естественный для музыканта-исполнителя творческий аппетит, предлагая полное погружение в процесс создания музыки, которого невозможно достигнуть иными средствами». В этой связи вполне вероятно, что термин «импровизационная музыка» в том смысле, в котором я использую его здесь, впервые утвердился в среде представителей этой группы европейских импровизаторов. Полагаю, что этот термин использовался не для того, чтобы отделить эту музыку от джаза, но чтобы лучше отражать европейский подход к построению импровизации, хотя и не без афрологических влияний.
Бейли, как и другие европейские импровизаторы, не пытается отрицать влияние афрологии на его собственное творчество. Потому критика джаза, предпринимаемая Бейли, в отличие от критических выпадов Кейджа в адрес джазовых импровизаторов, на самом деле является критикой мира искусства, окружающего джаз, с его тенденцией к канонизации и к тому, что воспринимается многими как капитуляция перед корпоративными силами, стремящимися превратить джаз в некое хромающее подобие новой классики. В этом смысле Бейли смыкается с Радано, указывающим на те же проблемы.
Третье течение в импровизационной музыке — так называемая школа нью-йоркского даунтауна; её представители — саксофонист Джон Зорн, гитаристы Фред Фрит, Юджин Чадборн и Эллиот Шарп, вокалистка Шелли Хёрш, перкуссионисты Дэвид Мосс и Икуэ Мори, тромбонист Джим Стэйли, арфистка Зина Паркинс, электронщик Боб Остертаг и многие другие. Музыка этой группы характеризуется тембровым и динамическим разнообразием, быстрыми и частыми сменами настроений, предельными громкостными контрастами, обширным использованием роковых звучаний и явными отсылками к популярной музыкальной культуре. Здесь опять-таки акцент на личностном ведет свое начало из афрологии; на мой взгляд, эта группа пытается примирить новации Кейджа в плане понимания времени, спонтанности и памяти, с отвергнутыми Кейджем джазом и импровизацией.
Возможно, наиболее подробные сведения о ранней деятельности AACM содержатся у Радано (Radano 1992, 1993).Работы Йоста (Jost, 1975), Литвайлера (Litweiler, 1984), Уилмера (Wilmer, 1992) и Корбетта (Corbett, 1994) также содержат полезные и информативные сведения. Литвайлер Litweiler 1984), Бейли (Bailey, 1992), Дин (Dean, 1992) и Корбетт (Corbett,1994) также много пишут о европейских пост-фри-джазовых импровизаторах. Восточногерманский критик Берт Ноглик (Noglik, 1981, 1990) также много писал об этих музыкантах, хотя эти работы на немецком языке трудно найти. Что касается информации о школе нью-йоркского даунтауна, эта группа в настоящее время гораздо лучше представлена в аудиозаписях, чем в публикациях; здесь будет полезна соответствующая дискография. В любом случае этот краткий обзор некоторых направлений импровизационной музыке вряд ли можно считать исчерпывающим.
Широкое, хорошо задокументированное сотрудничество между импровизаторами — представителями вышеперечисленных и иных культур — приводит нас к представлению об импровизационной музыке как о, пользуясь историческими терминами, межкультурной практике. К примеру, опыт крупного и яркого сообщества калифорнийских импровизаторов азиатского происхождения, включающее в себя пианистов Джона Джанга и Гленна Хориути, саксофонистов Рассела Баба, Джеральда Ошита и Фрэнсиса Вонга, басиста Марка Идзу; нарратора Бренду Вонг Аоки и котоистку Мию Масаока, заставляет подробно изучать музыкальные, культурные и политические связи между афроамериканской, евроамериканской и
Более того, появление в последнее время музыкантов, чьи культурные корни не связаны с Европой или Америкой, также свидетельствует о межкультурной природе импровизационной музыки. Такие музыканты, как корейская перкуссионистка (и исполнительница на корейском струнном инструменте комунго — прим.пер.) Джин Хи Ким, японский мультиинструменталист Торикаи Усио и южноафриканский перкуссионист Тхебе Липере, уже стали частью расширяющейся интернационализации импровизационной музыки. Их пример подчеркивает опасность узконационального и узкорасового подхода при оценке происхождения музыки. Выпущенная недавно биография южноафриканского пианиста Криса Макгрегора весьма полезна в качестве своеобразного путеводителя по межнациональным и межкультурным влияниям.
С учетом приведенных выше исторических прецедентов и связанных с ними социальных и культурных явлений мы можем теперь определить роль «импровизатора» как музыкальную деятельность, функционирующую в мировом музыкальном сообществе — подобно ролям «композитора», «исполнителя», «интерпретатора», «психоакустика» и разного рода «теоретиков». При определении роли «импровизатора» понимание импровизации как «композиции в живом времени» (т. е. нечто производное от композиции) фактически отбрасывается. Как только это сделано, еврологическое определение импровизатора как «исполнителя» также ставится под сомнение, поскольку в большинстве случаев импровизатор не исполняет никакого заранее созданного произведения.
Тем не менее, я далек от мысли оценивать роль этой музыкальной деятельности как некую фиксированную конструкцию, предпочитаю оценку этой роли как потенциальной. Композиция — сочинение музыки (а не произведений, которые «включают» импровизацию) для многих импровизаторов является частью их деятельности. Произведения Роско Митчелла, Энтони Брэкстона, Джона Зорна и Миши Менгельберга являются примерами работ, сохраняющих структурную согласованность, и при этом позволяющих композиционным элементам взаимодействовать с расширенной интерпретацией, осуществляемой импровизаторами — сохраняя таким образом за импровизатором возможность демонстрации личностного начала.
Свобода
С появлением различных версий «свободной» импровизации, в том числе «свободного» джаза, возникшего в начале 1960-х годов и европейской «свободной» импровизации, появившейся при различных культурных условиях в 1970-х, в музыкальный обиход вернулось понятие «свобода». В случае со «свободным «джазом (т. е. фри-джазом) борьба за права человека в Соединенных Штатах воплотилась в этой музыке, о чем свидетельствует политическая деятельность многих его представителей » — например, Арчи Шеппа. Говоря об импровизации у таких музыкантов, как Винко Глобокар и Корнелиус Кардью, где она сама по себе явилась символом свободы, то тут усматривается влияние революционных событий мая 1968 года в Париже и других европейских городах.
Как и понятие спонтанности, понятия «свобода» и «контроль» по-разному трактуются в еврологии и афрологии. Термин «фри-джаз», как следует из интервью Артура Тейлора с афрологическими музыкантами (Taylor 1993), в музыкальной среде оценивался как весьма спорный. Каковы бы ни были взгляды музыкантов на
Барабанщик Элвин Джонс бегло высказывается относительного своего участия в том, что называется «свободной музыкой»: «Не существует свободы без некоторой степени контролся — по крайней мере, без самоконтроля и самодисциплины… Колтрейн много экспериментировал в этой области… даже когда со стороны это выглядело как проявление свободы, на самом деле за этим стояли продуманный план и предельная дисциплина». Контрабасист Рон Картер по тому же поводу утверждает: «Можно играть как угодно свободно, но только нужно быть подготовленным к этой свободе. Иначе ты вгоняешь себя в штопор».
Другая точка зрения состоит в том, что свобода всегда присутствует в импровизации. Барабанщик Филли Джо Джонс настаивает на том, что импровизация сама по себе свободна и ни в чем большем не нуждается. «Все играют свободно. Когда ты играешь соло, ты свободен играть, что угодно. Вот она, свобода». Вторя этому голосу, пианист Рэнди Уэстон говорит о «свободной музыке»: «Я не понимаю, насколько эта музыка свободнее любой другой. Я слышал, как Монк берет один звук и тем самым создает невероятную свободу. Свобода есть естественное развитие».
В среде еврологических импровизаторов свобода часто выражается через характерные для европейской музыки традиционно иерархические взаимоотношения между композитором и исполнителем. Согласно Чейзу, «импровизация представляет собой зону свободы в музыке, где всё разрешено и приемлемо. Ты ответственен лишь за себя и за собственный вкус». Подобным образом и подготовка к импровизации описана как необходимость «освободить себя от негативных влияний, нас тормозящих».
Гораздо более распространенный в еврологической среде взгляд на импровизацию заключается в том, что ценная в музыкальном смысле импровизация не может быть «свободной», и ей надлежит быть «контролируемой» или неким образом «структурированной». Типично в этом отношении высказывание композитора и критика Тома Джонсона в адрес индетерминизма Кейджа: «Кейдж стал называть свои работы индетерминистскими, поскольку, назови он их “импровизациями”, это бы означало не связывать исполнителя никакими задачами и правилами». Похожая убежденность в том, что импровизации необходимы правила, выражена в сетованиях Лучано Берио по поводу того, что «импровизация проблематична в том плане, что среди импровизаторов нет единого на неё взгляда, а есть лишь сиюминутное поведенческое единство».
В любом случае наиболее распространенным еврологическим методом является применение предписанных композитором систем поведения музыкантов, вне
Иногда правила касаются не того, как играть, а того, как мыслить. Штокхаузен, описывая свою «интуитивную музыку», примером которой является его цикл Aus den sieben Tagen, отрицает любую возможность связи его «интуитивной музыки» с импровизацией. Доказывая, что интуитивная музыка далека от импровизации, он обращается к теории мотивов: «Импровизация всегда связана с определенной схемой, формулой и стилистикой». Согласно Штокхаузену, музыка должна напрямую следовать из интуиции, проявляя единство состояния, которое он описывает словами «einstimmen» (прийти к соглашению) и «Stimmung» (настройка): «Ориентация музыкантов, которую я называю “Einstimmung” (единство состояния), не является, однако, произвольной или чисто негативной — исключающей любые идеи определенной направленности — скорее, это концентрация на моем тексте в любой момент времени, что пробуждает интуицию совершенно определенного свойства».
Даже такой простой набор правил, однако, всё равно требует от исполнителей некоторых преднамеренных действий, предполагая уменьшение активности игры ради проявления спонтанности и торжества интуиции. Более того, несмотря на кажущуюся попытку многих представителей еврологии отделить системы, основанные на исполнительском выборе, от афрологических систем импровизирования, методы, описанные Де ла Мотте, весьма напоминают афроамериканскую практику использования аккордовых последовательностей, часто называемых словом changes (т. е. «изменения», «перемены»), в качестве системы, регулирующей действия музыкантов. Хотя еврологические системы, основанные на исполнительском выборе, необязательно используют гармонические обороты, всё же они функционируют аналогичным образом, предписывая, направляя, координируя случайности, тем самым производя «перемены» в содержании музыки.
В любом случае и системы исполнительского выбора, и интуитивистсткие схемы, сформулированные Штокхаузеном и другими еврологическими композиторами, действительно отличаются от афрологического понимания импровизации. Эти системы, вероятно, принимают во внимание отсутствие обучения импровизации в еврологических системах музыкального образования. По крайней мере, они призваны компенсировать этот недостаток, смягчая для исполнителя «ужасающую перспективу свободно играть всё, что приходит на ум», предусматривая материал, дополняющий и даже вытесняющий собственный творческий лексикон исполнителя.
На мой взгляд, при анализе структурного содержания музыкальной импровизации крайне важно задаваться вопросами «как», «когда» и «почему». С другой стороны, вопрос «существует ли структура в импровизации» (или, если уж на то пошло, в любой человеческой деятельности) носит скорее уничижительный, а не разъясняющий характер.
То, что и в музыкальной, и в нашей повседневной человеческой импровизации мы, взаимодействуя с окружающей нас средой, проходя через время, пространство и различные обстоятельства, создаём или исследуем разного рода структуры, должно быть признано аксиомой. Очевидно, что этот интерактивный, формообразующий процесс естественным образом укоренился и плодоносит в разных музыкальных направлениях, независимо от того, есть ли там предписанные правила или нет.
Индивидуальность
Одной из важных черт афрологической импровизации является наличие персонального нарратива, возможности «рассказать собственную историю». Берлинер рассматривает эту метафору как определяющую структурный процесс для многих импровизаторов. Слова Эролла Гарнера являются тому подтверждением: «Если ты берешься за инструмент, мне всё равно, как сильно ты кого-то любишь, как сильно ты хочешь остаться в памяти этих людей — ты должен дать себе шанс найти что-то внутри себя и дать этому чему-то выйти наружу».
Частью рассказа собственной истории является нахождение собственного звука. В афрологической импровизации понятие «звук» применительно к импровизации может быть рассмотрено как аналог понятия композиторского «стиля» в еврологических музыкальных системах, особенно в семиотическом смысле. Более того, для афрологического импровизатора «звук», музыкальность, личность и интеллект неотделимы от самого феномена импровизации. Личностные качества передаются через звуки, а звуки наполняются более глубокими характеристиками, чем просто звуковысотность и интервалика. Саксофонист Юзеф Латиф впрямую говорит об этом: «Звук импровизации говорит нам о личности импровизатора. Слушая, как музыкант импровизирует, мы ощущаем, каков он как личность».
Решающим для формирования персонального звука является развитие аналитических навыков импровизатора. Для новичков он начинается с подражания другим импровизаторам. Фрейзер приводит высказывание Гиллеспи о том, что импровизатор начинает с «точной имитации кого-то». Это подражание отсылает к связи музыки с речью и телесным движением. Фрейзер далее утверждает, что «будущий импровизатор… развивает свойства слушания и контакта с окружающей его средой… Через слух развивается и собственный музыкальный язык, структурные особенности которого подсознательно формируются посредством слушания окружающего мира».
Интересно, что Кейдж, критикуя джаз, также сравнивает его с личным повествованием. Джаз для Кейджа, правда, сродни галдежу толпы: «Джаз слишком часто предполагает человеческий разговор — и это похоже на оживленную дискуссию… Если же я собираюсь слушать речь, я бы хотел слышать слова». Как бы ни был Кейдж далёк от афрологии, его проницательный комментарий всё же демонстрирует интерсубъективное обоснование того, что в афрологической импровизации рассказ импровизатором личной истории является одним из эстетических требований.
В любом случае еврологические импровизаторы относятся к проявлению персонального в импровизации с подозрением. Полагаю, что на еврологических импровизаторов послевоенной эпохи опять-таки существенно повлияли идеи Кейджа: «Я хотел бы найти такую импровизацию, которая бы не описывала самого импровизатора, а описывала бы то, что происходит, то, что характеризуется отсутствием [личного] намерения». Интервьюируя членов АММ, композитор Кристофер Хоббс констатирует, что одно из наслаждений слушаний групповой импровизации заключается в том, что «невозможно различить, кто что играет, да это в конечном итоге и не так важно». Британский композитор Гавин Браярс, отошедший от импровизации в 1970х, отмечал, что «одна из причин, по которым я выступаю сейчас против импровизации, заключается в том, что в импровизации тот, кто создает музыку, отождествляется с самой музыкой… Это сродни художнику, стоящему перед картиной, и каждый раз, когда вы смотрите на картину, вы видите художника, а без него картины не видно».
В некотором смысле дистанцирование от личного нарратива по-новому раскрывает суть пост-кантианской концепции «автономно значимой структуры», упоминаемой Роуз Суботник в её эссе о современной еврологической музыке. Эта автономия зиждется на предположении о том, что «люди могут создавать структуры или домены, завершённые и осмысленные сами по себе». Более того, согласно Роуз Суботник, «наличие ценности такой структуры не зависит от персональной идентичности, силы, привычек или приоритетов тех, кто создает или потребляет данную структуру. Скорее, ценность заключается в способности структуры последовательно существовать согласно собственным законам».
Суботник полагает, что этот идеал автономии — фикция; это же подтверждает известная теорема Гёделя, согласно которой невозможно описать любую логическую систему посредством её собственных терминов. В любом случае, живопись без живописца Брайарса, так же как и кейджевские «звуки сами по себе», несущие лишь частоту, громкость, длительность, обертоны, оторванные от социальных и культурных явлений, весьма согласуются с этой концепцией автономии.
Как и теория мотивов в импровизации, тема персонального нарратива и автономии является предметом дискуссий даже в еврологическом музыкальном мире. Хотя члены новаторской импровизационной группы MEV — Musica Elettronica Viva (в их числе пианист Элвин Карран, электронщик Ричард Тейтельбаум, тромбонист Гарретт Лист и пианист Фредерик Ржевски) — были весьма тесно связаны с Кейджем, их идеи групповой импровизации (подобно другим «пост-кейджевским» импровизаторам, таким, например, как Малькольм Гольдштейн) лишь отчасти напоминали взгляды Кейджа. В работе «Описание и анализ процесса» Фредерик Ржевски утверждает, что музыка MEV «основана на дружбе. Этот элемент дружбы передан в музыке, его не скроешь».

Ранее в этом страстном, блестящем, хоть и несколько бессвязном трактате, Ржевски утверждает, что «любое недружественное действие со стороны отдельных лиц угрожает силе музыки, которую мы все пытаемся создать». Малькольм Гольдштейн ещё более конкретно, чем Ржевски, заявляет подобно Эроллу Гарнеру, что акт импровизации требует от импровизатора ответа на важный вопрос: «Кто ты? Как ты оцениваешь или ощущаешь настоящий момент или звук?». Вероятно, наиболее содержательно о сути импровизации высказался Чарли Паркер: «Музыка — это твой собственный опыт, твои мысли, твоя мудрость. Если ты всё это не проживаешь, оно никогда не выйдет из твоей дудки». Очевидно следствие: то, как ты живёшь, и выходит из твоей дудки.
Опубликовано впервые в Black Music Research Journal, Vol. 16, No. 1, (Spring, 1996).
Перевод — Роман Столяр, август 2018 г.
