Политика шума и философия звучащего
Конспект лекции «Резонансное и пневматическое: к политике шума», прошедшей 7 октября 2017 года в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков в рамках Лектория «Вслух», — экскурс в историю мысли о звучащем от Платона и Аристотеля до Делеза и Гваттари, Бонне и Гудмана, а также, собственно, наброски к политике шума, разведенные по трем направлениям: экология страха, фетишизм слушания и экономика. Расшифровка аудио — Ксения Бондаренко. Подбор визуальных материалов — Никита Сафонов.
Начать я хотел бы фрагментом из книги Феликса Гваттари и Жиля Делёза «Тысяча плато: Капитализм и шизофрения» из главы «О Ритурнели», где речь идёт в основном о ритме, но, собственно, начало текста может очертить тот спектр вопросов, который я собрался осветить.
I.
Охваченный страхом в темноте ребенок напевает, чтобы успокоиться. Он бродит, вдруг останавливается — и все по воле песенки. Потерянный, в меру своих сил, он защищается и, с грехом пополам, ориентируется благодаря песенке. Такая песенка напоминает грубый набросок убаюкивающего и стабилизирующего, спокойного и устойчивого центра внутри хаоса. Ребенок может даже подпрыгивать, когда поет, ускорять или замедлять темп; но как раз сама песня — уже прыжок: она перескакивает от хаоса к началам порядка в хаосе и каждое мгновение рискует развалиться. Всегда есть какое-то звучание в нити Ариадны. Или в пении Орфея.
II.
Итак, голосовые или звуковые компоненты весьма важны — стена звука, или в любом случае стена, хотя бы некоторые кирпичи которой состоят из звука. Ребенок напевает, чтобы накопить силы для домашних заданий, требуемых в школе. Домохозяйка напевает или слушает радио, когда организует антихаотические силы своей работы. Радио или телевизор подобны звуковой стене вокруг каждого домашнего очага, они помечают территории (а сосед протестует, когда слишком громко). Ради возвышенных сооружений — вроде основания города или изготовления Голема — мы чертим круг, но, главным образом, мы ходим по кругу будто в детском хороводе, соединяя согласные и ритмические гласные, соответствующие внутренним силам творения как различным частям организма. Ошибка в скорости, ритме или гармонии была бы катастрофой, ибо она погубила бы и творца, и творение, вернув силы хаоса.
Мне кажется, что этот небольшой набросок позволяет понять, что то, как мы слушаем, далеко не всегда связано с нашими представлениями о музыке. Стоит также пояснить, почему меня заинтересовала и была мною выбрана именно тема звука и шума. Я получил академическое образование в музыкальной школе по классу скрипки, после чего стал заниматься литературой и современными авангардными тенденциями и техниками. В работе с языком меня всегда интересовал момент выхода во внеязыковое пространство и рассматривание поэтических текстов не с точки зрения каких-то лингвистических критериев, а с точки зрения производства текстов, особой практики, с точки зрения процедуры искусства — автономной, со своими правилами. Также я заметил за собой привычку к слушанию различных ландшафтов, в том числе урбанистических, таких как звуки поездов или шум деревьев. Или просто повышение интенсивности особых звуков в отдельных замкнутых пространствах, например, под мостом или в комнате. Вчера я смотрел фильм о возникновении немецкой техносцены, в котором был один персонаж, в действиях которого я нашёл определённое сходство с собой. Он сказал, что когда идёт гулять, то «выгуливает уши». Третий момент был связан с опытом работы в подземном строительстве. Это был проект строительства тоннеля водозабора воды на Главной водозаборной станции Петербурга, на набережной Робеспьера. Это тоннель, который как бы выходит в Неву, проходя под дном реки. В мои обязанности входило идти в голову тоннеля, который ближе всего ко дну реки. Тоннель движется поступательно, линейными периодами. Там очень тихо, слышен только гул установок: насосов, генераторных станций и т. п. При этом слышно, как песок трётся о железную обделку тоннеля, который едет. Сначала я не понимал, что это за звук, пока не связал его с движением тоннеля. И мне в тот момент стало казаться, что слушание в принципе отличается от видения, других чувств и вообще от опыта повседневности, потому что оно погружает субъекта в некое включённое и постоянно активное состояние. То есть, помимо того, что это особый тип мышления — мышления о звуке, это ещё и особенный тип именно состояния субъекта. Об этом в дальнейшем тоже пойдёт речь.
О названии «К политике шума». «К» политике можно прочитать как “towards” — по направлению, как «давайте пойдем к политике шума» или как «комментарий к политике шума». Мне кажется, что шум — это понятие, в котором логика ускользает. Что такое шум? Шум может быть фоном (мы можем слышать какой-то шум вдалеке, шум чего-то, шум водопада, шум города и так далее). И одновременно шум может быть «разрывом синтагматической последовательности» (как это назвал Леви-Стросс): существует фон, затем внезапно производится какой-то шум, который разрезает фон). То есть шум одновременно оказывается и фоном, и фигурой, которая делает какое-то смещение в общем пространстве и времени звучания.
Есть ещё пример, касающийся проблемы шума, звука и слушания. Это произведение Берроуза, которое называется «Невидимое поколение». Оно начинается словами: «То, что мы видим, во многом определяется тем, что мы слышим». Дальше Берроуз перечисляет разные способы проверки этого утверждения. Наша повседневность состоит из обрывков речи, увиденного, прочитанного и услышанного из информационных источников, и мы очень редко отдаем себе отчёт в том, что все эти ритмы и способы репрезентации так или иначе конструируют наше мышление. Иллюзорная реальность, как говорит Берроуз, имеет право на производство нашей социальной реальности.
Опыт слушания, по Берроузу, предполагает особый тип мышления, потому что мы можем мыслить как в терминах видимого и невидимого, так и в терминах слышимого и неслышимого.
Это вообще другая зона работы сознания.

Спустя два года Берроуз пишет другую работу, она называется «Электронная революция». В ней он описывает утопию протеста: он предлагает представить себе ситуацию, когда люди на улицах вооружаются не коктейлями Молотова, а записывающими и проигрывающими устройствами. На них они пишут обрывки речей президента, различные шумы, лай собак, ещё
Деян Стретенович, куратор из Сербии, приводит на почве этого произведения Берроуза примечательный пример из 1997 года — это зима в Белграде, когда
Эти примеры, как мне кажется, позволяют подойти к спектру современного письма о звуке, шуме, слышании музыки. Пытаясь скомпоновать более ёмкую структуру, я заметил, что, начиная с древнегреческих философов, есть два момента в представлении о звучащем — в принципе, в современной литературе и науке их также можно отследить. Сначала я расскажу про генеалогию вопроса о звучащем до ХХ века, потом немного о том, почему ХХ век является разрывом, и дальше уже перейду к тому, что сейчас могут предложить некоторые авторы.
Нужно оговориться относительно понятия звучащего. В англоязычной литературе употребляют понятие sonorous. Оно происходит от латинского «шумное, громкое, сонорное, способное производить звук». Звучащее определяется как весь спектр возможных звуков на всём возможном пространстве, которое можно представить с помощью воображения. Совокупность вибраций, которые могут выражаться в звуке. Звук — это всегда нечто, что существует, даже если оно не слышимо человеком, животным или нечеловеком в зависимости от их спектра слышимости. Явление, которое характеризует распространение механических колебаний в определённых средах. «Звучащее» мне кажется корректным переводом sonorous. Есть видимое, а есть звучащее.
Видимое — то, что можно увидеть, звучащее — то, что кто-то может или не может услышать, поле звуков, которое распределяется в некоторых условиях, которые мы можем воспринять (или не воспринять).
Оно не имеет формальных границ. Звук, как известно, может преодолевать различного рода преграды, пребывает в постоянном изменении и становится всё время иным. Можно сказать, что это матрица вибрационных сил и синтезов этих сил и восприятий.

1. Мысли о звучащем до ХХ века
Платон, как известно, выделял зрение в качестве основной познавательной способности. Он определяет зрение как познавательную способность, дарованную людям, «чтобы они, наблюдая круговращение ума в небе, извлекли пользу для круговращения своего мышления». Платон описывает четыре причины приятных и болезненных впечатлений: запах, цвет, вкус и слух. В его понимании звук — это «импульс, который производится воздухом через уши на мозг и кровь и доходит до самой души, между тем как вызванное этим толчком движение, которое начинается с головы и оканчивается в области печени, есть слышание». То есть, он представляет звучащее и процесс возникновения звука как смещение одной единой субстанции, субстанции всего звучащего, которая как бы проходит через человека — и человек начинает вибрировать. Это платоновское понимание звука, то есть представление о том, что у звука есть определенный модус материи, в дальнейшем оседает почти во всех работах.
Звук — это, грубо говоря, сгусток воздуха, который смещается, а человек фиксирует это смещение. Эта субстанция, которая постоянно смещается, называется у Платона пневмой.
Пневма в дальнейшем будет связана со средневековой наукой о Духе, пневматологией. Есть пассаж из Библии о Боге, который вкладывает в человека дыхание — это и есть эта пневма, которая позволяет жизни развиваться.
Аристотель тоже очень часто пишет о пневме и определяет ее как орган или инструмент движения, который не меняется качественно, расположен между материальным и нематериальным и является перводвигателем, который порождает все движения в мире. Что-то вроде эфира. В трактате о дыхании он рассматривает пневматические концепции своих предшественников, в том числе Платона, Анаксагора, Демокрита, Эмпедокла. И он делает два смещения: во-первых, он говорит, что пневма свойственна не только человеческому, а всему, вплоть до деревьев, червей, земли и так далее. Это некое первичное семя, из которого вообще что-то зарождается. Во-вторых, она появляется не в момент рождения живого, а гораздо раньше, она есть всегда. Таким образом, Аристотель работает с понятием пневматического, но пытается отвязать его, отобрать у него какой-то мистический потенциал. Оторвать и от души и от дыхания, сказать, что оно свойственно всему миру и есть во всех существах, не обязательно в человеке. В то же время у Аристотеля появляются зачатки резонансной теории, которые некоторые авторы выделяют как протоволновую. Аристотель будто бы понимал, что в ухе есть мембрана, которая колеблется, что звуки, которые воспринимаются нами, являются отношениями внутреннего и внешнего через эту мембрану, которая передаёт сигналы в мозг. Аристотель этого не знал, как указывает один автор, потому что у греков не было представления о том, что в ухе есть мембрана, — только у пифагорейцев были какие-то безумные исследователи, которые резали коз и, добравшись до ушей, увидели там перепонку. Аристотель определяет звук как звучащее — «то, что приводит плотный воздух в непрерывное движение, доводя его до органа слуха, а орган слуха тесно сопряжён с воздухом».
«Звучащее находится в воздухе, воздух внутри органа слуха приводится в движение движением внешнего воздуха», — то есть, у Аристотеля есть представление о моменте отношения внешнего и внутреннего. О резонансном моменте. В противовес пневматическому моменту, связанному с движением единой субстанции.
Далее о Декарте. Человек в Новом времени изобретает субъекта, который познает мир и способен рационально познать вещи с помощью математики. Декарта многие авторы считают основателем визуальной парадигмы. Но один из исследователей, Вейт Эрльман, обращается к философии Декарта и говорит, что не стоит смотреть только на его ключевые труды, вроде «Размышлений о первоначальной философии», потому что если исследователи звука фиксируются только на его основных сочинениях, они, как правило, упускают важную часть работы Декарта. Она связана с его самым первым трактатом — «Музыкальным компендиумом». Он был опубликован только после смерти Декарта, в 1750 году, и, как утверждает Эрльман, в этом трактате Декарт использует вопросы музыки и слушания в качестве основания будущего развития для всей собственной мысли.
Все вопросы относительно звука Декарт включает в понятие резонанса. «Человеческий голос оказывается приятней для нас, потому как он наиболее прямо соотносится с нашей душой», пишет Декарт в самом начале «Компендиума» и дополняет это предложение странным примером, состоящим из двух пропозиций: (1) голос друга приятнее нам, чем голос врага
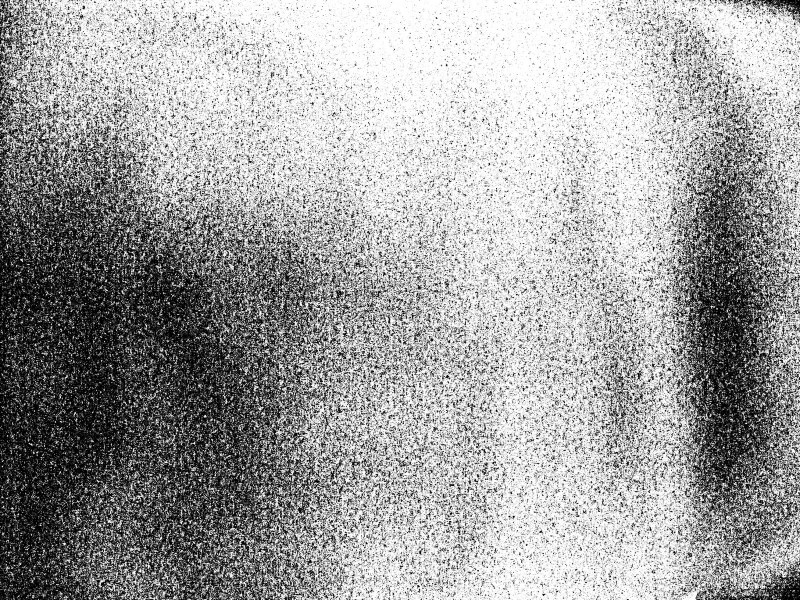
В оксфордском словаре у понятия резонанса есть несколько значений. Я замечаю, что и в повседневной речи, и во многих текстах люди очень часто употребляют слово резонанс, при этом само понятие очень смутное. С одной стороны, резонанс — это усиление интенсивности колебания какого-то тела за счет совпадения частот колебания этого тела и среды, в которой находится это тело. Это первое значение. Второе звучит так: излучение энергии телом в связи с колебательным воздействием на частицу. То есть, на частицу нечто воздействует со стороны внешнего, как у Аристотеля, и она начинает отвечать и усиливает свои колебания за счет совпадения («симпатии», как говорит Декарт). И третье — это сила, способная пробуждать образы и эмоции в памяти. Наиболее подходящий русский аналог — «отклик». Например: «это событие откликнулось во мне», то есть, срезонировало. В данном случае это акустический термин, который означает продление звука посредством реверберации, то есть уменьшением интенсивности при многократных отражениях. Восходит к латинскому resonantia — эхо, производное от resonare. Resonare — буквально re sonare — «снова звучать».
Декарт резонанс противопоставляет разуму. Он говорит, что этот механизм радикально отличается от механизма зрения, а разум является механизмом зрения.
Он пишет: в то время как разум отделяет субъект от объекта, резонанс предполагает их соединение. Там, где разум требует разграничения и автономии, резонанс несет за собой смежность, симпатию и коллапс границы между воспринимающим и воспринимаемым. «Без резонанса услышанный голос не будет распознан, преобразован в симпатию или антипатию», — говорит Декарт. С этого момента звучащее становится не просто средой, которая переносит какие-то звуки, а является пространством становления актов резонанса. Колебания материи, по Декарту, как бы слепляют субъектов, которые слушают, со средами, в которых они находятся.
1799 год, завершение французской революции. Жан-Батист Ламарк открывает способность звука перемещаться не только в воздухе, но и в твердых телах, проходить сквозь стены и так далее. Тут важен момент, что все ранние авторы, которые работали до ХХ века с понятием звучащего, создают мифологии, или, как говорит французский автор Франсуа Бонне, «небылицы» звучащего за счет того, что нет никакой возможности представить весь спектр того, что можно услышать. У людей науки, исследователей, философов, физиков, математиков появляется тенденция определять звучащее какими-то мистическими терминами. И вот Ламарк делает открытие: звук может распространяться в разных средах. Сквозь воду, например. Он делает вывод, что существует особенная текучая среда, которая переносит звуки, и называет ее «эфирный огонь». Эта среда отличается от обычного воздуха, так как может перемещаться без сопротивления сквозь более плотные среды. Это жидкая материя, эластичная, способная к сжатию, невидимая и даже не воспринимаемая чувствами, свободная, холодная, способная с легкостью проникать во все тела. Ламарк (после того, как Декарт начинает говорить о резонансе, об отношениях внутреннего и внешнего) снова воскрешает пневматическую концепцию, говоря, что звучащее — это отдельная субстанция, это не воздух, не вода, не
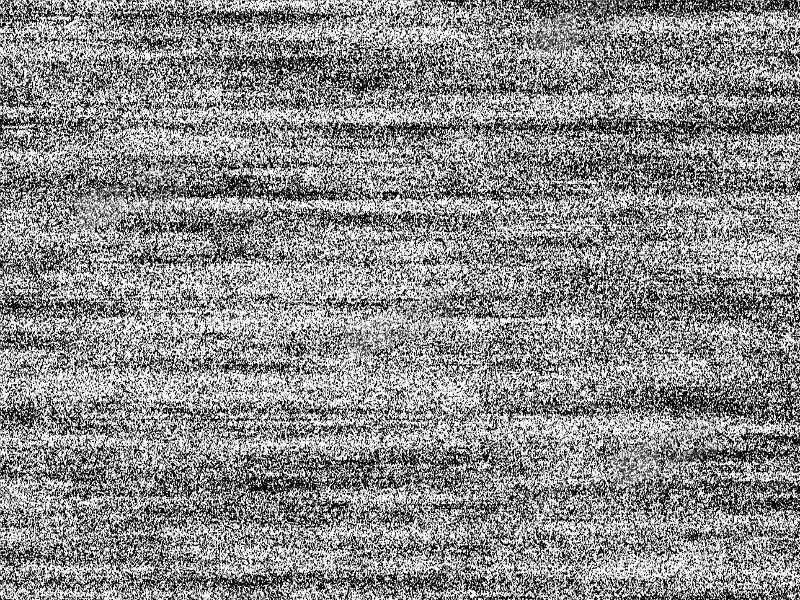
В 1817 году к звучащему обращается Гегель. Он пишет «Философию природы», где пытается охватить все процессы, которые происходят на земле. Он располагает звук в главе «Физика особенной индивидуальности» между параграфами о сцеплении и теплоте. Глава открывается параграфом об удельном весе. Это всё находится во втором блоке раздела «Философия природы» — между механикой и органической физикой.
Вопрос звучащего Гегель решает диалектически. Он говорит о том, что в реальности происходят преобразования материального и идеального.
Звучание само по себе есть самость индивидуальности. Но это не абстрактная индивидуальность, подобная свету, а как бы механический свет, который обнаруживается в сцеплении частиц лишь как время движения. В начале первого параграфа Гегель говорит о том, что внутренней формой всех тел является определенность, собранность. Например, мы собраны с помощью органов, костей, внутренних сред и молекул. Определенность выражается в двух вещах — это принцип сцепления частей (то, как внутри у тела все собрано) и плотность тела. Все тела погружены в материальные среды. В этих средах тела перестают быть целостными и устойчивыми: они начинают дрожать и колебаться. Гегель воспринимает всё, что есть вокруг, как пространство постоянного колебания и преобразования. В дрожании отрицаются обе определенности, которые есть у тел: отрицается их вес, сцепление и отрицание этого отрицания. Тело погружено в среду, тело дрожит и одновременно оно отрицает и свою устойчивость в плане композиции, собранности, и одновременно отрицает свою плотность и свой вес. Можно представить себе дрожащий колокол или дрожащего человека, через которого проходят какие-то вибрации, на танцполе, например. Гегель говорит, что когда тело начинает колебаться и дрожать, это дрожание переходит в новое качественное состояние — теплоту. «Для представления звука теплота, конечно, разнородная. И может показаться странным столь тесное их сближение. Но, когда, например, бьют в колокол, он нагревается. Это нагревание приходит к нему не извне, а полагается его собственным внутренним содроганием. Разгорячаются не только музыканты, но и инструменты». В начале последнего параграфа Гегель говорит, о том, что звук — это смена способа расположения тел в
По Гегелю, есть три способа производства звука. Первое — трение, например, океан, который шумит, там нет никакого звука, он производит только шум. Второе — отклик, например, трескающееся стекло. Внутреннее колебание стекла от
В 1900 году, на рубеже XIX–XX веков, Никола Тесла тоже занимается звуком и особым образом реализует пневматическую концепцию.
Он представляет себе землю как огромный космический трансмиттер и считает возможным в услышать радиосигналы, которые транслируются с других планет, распознать в общем электромагнитном шуме определенные факты и декодировать поступающие сообщения. Можно сказать, что на рубеже веков речь о звучащем приводит к тому, что звучащее как понятие снова мистифицируется. Опять появляется некая мифология (в связи с открытием электромагнетизма). В том числе у Теслы присутствует резонансная теория на равных правах с пневматической, потому что резонанс, конечно, связан не с воздействием каких-то вибраций на тела, а с тем, что вообще в реальности космоса, в реальности вселенной происходят столкновения разных сил. Какие-то сообщения можно декодировать, можно сделать из них выводы и это своего рода территориальный резонанс, появление которого обозначает тенденцию в ХХ веке к интервенции разума на территорию шума. И одновременно это призыв к расширению логики слушания и расширению вопроса о звучащем, вплоть до изобретения Абсолютного Уха.
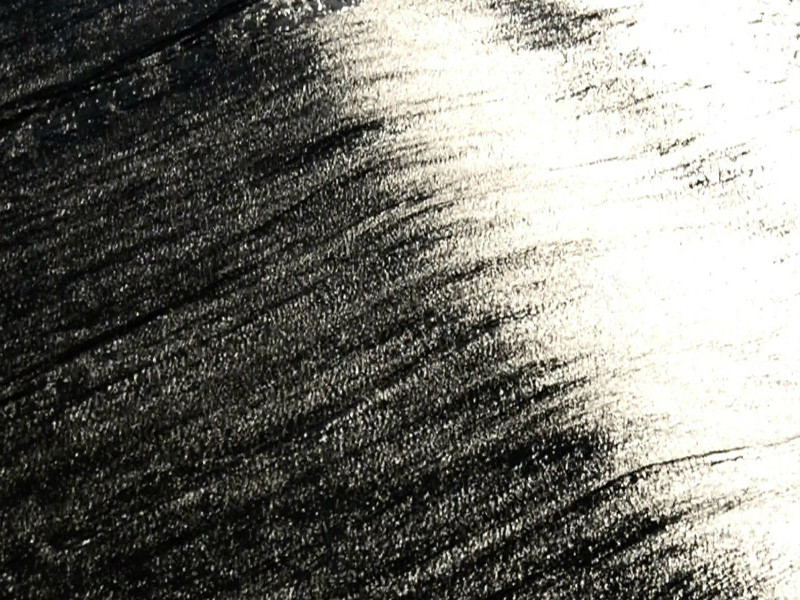
2. Рубеж ХХ века
В начале ХХ века социальное поле затапливается новыми звуками, становится возможным записывать звуковой контент, передавать его по радиоканалам, складировать его, архивировать, использовать в разных местах, где это необходимо. Растут города, увеличивается шум на улицах, появляется шум станков, поскольку идет тотальная индустриализация. Становится больше шума, вокруг людей больше звуков. Есть два примера, которые связаны с этой темой. Первый пример: 1916 год, Дзига Вертов (Денис Кауфман), известный в последствии режиссёр, студент неврологического института в Петрограде, грезит проектом Лаборатории слуха. Идея состояла, как говорил сам автор, в расширении человеческой способности организованного слушания. Это авангардный проект, в котором революционный субъект должен развивать свою способность слушать все звуки вокруг, которые есть, а не зацикливаться на конкретных музыкальных моментах. Дзига Вертов решил включать аудиальный мир в свою концепцию слушания. В одном из дневников он пишет:
«На каникулах, недалеко от озера Ильмень, была лесопилка, которая принадлежала землевладельцу Славянинову. У этой лесопилки я назначал свидание своей подруге, мне нужно было часами ждать её. Эти часы посвящались слушанию лесопилки. Я старался описать аудиальные впечатления от лесопилки как если бы их воспринимал слепой. Вначале я записывал слова, потом я пытался записывать все эти шумы буквами».
Первое желание, которое появляется у Дзиги Вертова, когда он слушает лесопилку, — записать, перевести это в знаки, попробовать это концептуализировать. Отсутствие нормальных средств фиксации, аппаратов для записи заставляет его признать: «Я столкнулся с проблемой, она была вызвана отсутствием устройства, с помощью которого потом бы я мог записывать и анализировать потом эти звуки. Поэтому я оставил временно эти попытки и переключился на работу по организации слов».
Дальше у Вертова был период, когда он занимался исключительно текстами. В мае 18-го он устраивается на работу в кинематографический комитет в качестве секретаря, сразу становится руководителем кинопроизводства, редактором журнала «Кинонеделя» и дальше начинает снимать свои фильмы, где тоже использует логику монтажа, логику ритма, то есть опыт из дискурса «Лаборатории слуха». И вот он пишет: «Однажды, весной 18-го, возвращаясь с железнодорожной станции, я услышал у себя в ушах урчание отправляющегося поезда. Кто-то произносит клятву, поцелуй, кто-то оправдывается. Смех, свисток, голоса, звук станционного колокола, пыхтящего паровоза, шёпот, плач, прощание. Я подумал про себя во время прогулки: мне нужно найти оборудование, которое будет не описывать, но записывать, фотографировать эти звуки. Иначе нет никакой возможности организовывать, редактировать их. Они убегают в прошлое, как время. Кинокамера может записывать видимое, организовывать не аудиальный, но визуальный мир, может быть, это выход».
Второй пример более известен: 1913 год, манифест Луиджи Руссоло «Искусство шумов». Руссоло говорит, что вокруг слишком много шумов, что музыкантам следует отказаться от настроенных инструментов, а вместо них использовать всё, что попадется под руку, и пытаться в этот тотальный шум развивающихся городов и развивающейся социальности интегрировать какие-то свои шумовые эстетические комплексы.
Казалось бы, условия радикально поменялись, и древнегреческое разделение на пневматическую и резонансную концепции должно исчезнуть, но на самом деле нет, потому что его продолжают деконструировать.
Это выражается в двух моментах. Первый: движение к расширению мышления посредством развития философии слушания (через постановку звучащего в оппозицию видимому и одновременно в оппозицию языку). Второй момент выражен в форме разработки способов интервенции в
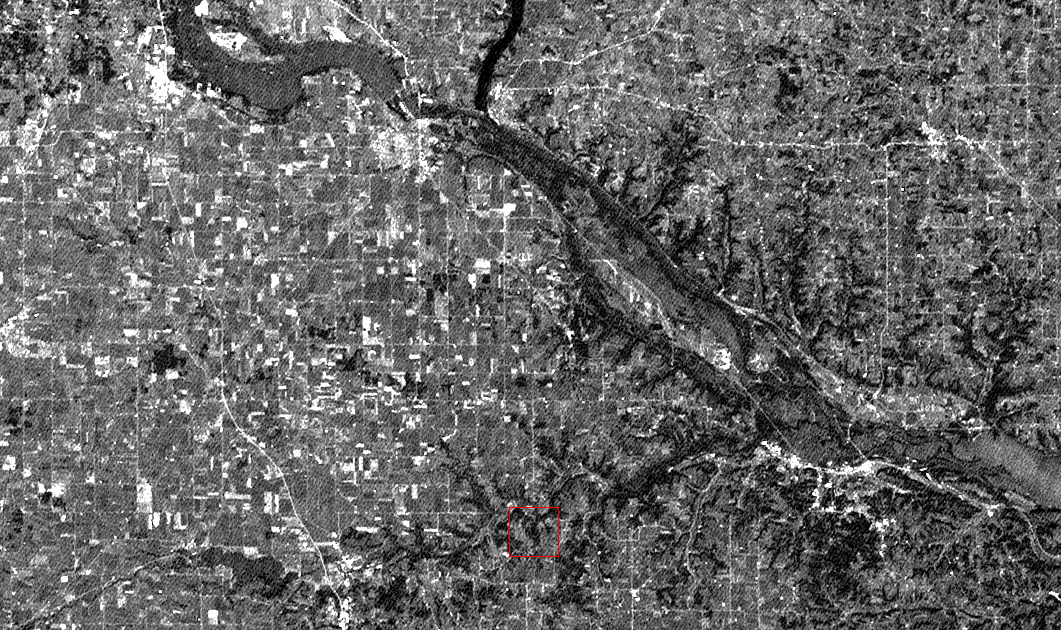
3. Пневматическое и резонансное
Две линии философских подходов организуются в ХХ веке, и обе касаются вопросов социального и политического. Проблема выходит на
Резонансный момент связан с тем, что звучащее всегда работает в плане отношения внутреннего и внешнего, всегда есть некое колебание.
В XX веке изобретается «резонансный субъект». Развивает эту концепцию Жан-Люк Нанси.
Есть различие между слышанием и слушанием. Слышание означает способность понимать чувство, оно связано с рассудком. Когда мы слышим — это всегда нечто (сирена, звук барабанов, свист). Всегда понимается ситуация и контекст, если не текст, в котором звуки проявляются. То есть, констатируется факт, а не содержание. Слушание по Нанси — это операция субъекта, которая означает вытягивание сознания в сторону возможного значения. В слышании проявляется, например, конкретный удар руки, звук двигателя. Слушание — это процесс, когда сознание выходит из самого себя, чтобы встретиться со значением, ждёт, какое значение срезонирует. Можно слышать неприятный шум, а можно прислушаться к уличному шуму и вычленить из него определенные звуки или конкретную речь. Если Гегель говорит, что звучание есть самость индивидуальности, то Нанси говорит, что чувство звучащего (есть отдельное чувство звучащего, которое, по Нанси, отличается от зрительного) является кризисом самости. Накатывающая волна самости для Нанси всегда связана с активным критическим состоянием, когда субъект не просто созерцает, но постоянно находится в поле реагирования.
Два других французских автора, работающие с теорией резонансного субъекта — это Жак Деррида и Ролан Барт.
Деррида в эссе «Тимпан» говорит, что особый тип мысли о звучащем связан с устройством слухового канала. Это лабиринт, в котором происходят бесконечные столкновения различных поступающих данных, которые преобразуются разумом в
Резонансный субъект очень плотно укоренён в разделении, которое Ницше делает в отношении аполлонического и дионисийского.
Есть два типа опьянения. Аполлоническое связано, скорее, с формами, фигурами, гармонией и порядком. «Аполлоническое опьянение держит в состоянии возбуждения прежде всего глаз, так как он обретает способностью к видению. Живописец, пластик, эпический поэт — визионер. В дионисическом состоянии (а музыка для Ницше и вообще вопрос звучащего является дионисическим вопросом), напротив, возбуждена и усилена вся система аффектов. Так что она разом разряжает все средства выражения, выказывая одновременно силу изображения, подражания, преображения, превращения, всякого рода мимику и актерство. Ключевой остается легкость метаморфозы, неспособность не реагировать». Авторы концепции резонансного субъекта выстраивают такой тип субъективности относительно звучащего, что звучащее провоцирует распад субъективности на несколько линий, которые пытаются сопоставиться с тем, что звучит. Это похоже на то, что Декарт называл коллапсом границ между воспринимающим и воспринимаемым. Авторы концепции резонансного субъекта отвязывают область пневматического одновременно от логики видимости и от логики языка. Музыкальное, слушаемое, звучащее почти не связаны с языком, находятся с ним в сложных отношениях.

4. Политика шума
Далее я перейду к более современным исследованиям и рассмотрю три книги. Это работы Стива Гудмана «Звуковая война. Звук, аффект, экология страха», Франсуа Бонне «Порядок звуков. Звучащий архипелаг» и Жака Аттали «Шум: политическая экономия музыки».
Чтобы к ним перейти, я кратко скажу о политике шума. Я понимаю её, в первую очередь, в том смысле, в котором Жак Рансьер понимает область политического. Для Рансьера область политического — это столкновение двух типов сил. Первый тип силы — полиция, второй тип силы — политика. Полиция занимается тем, что выстраивает иерархии. В отношении звучащего она предписывает, какую музыку слушать, какая музыка считается приятной, происходит распределение по жанрам, кристаллизация жанров в
Можно выделить три рубрики политики шума: страх, фетишизм, экономика.
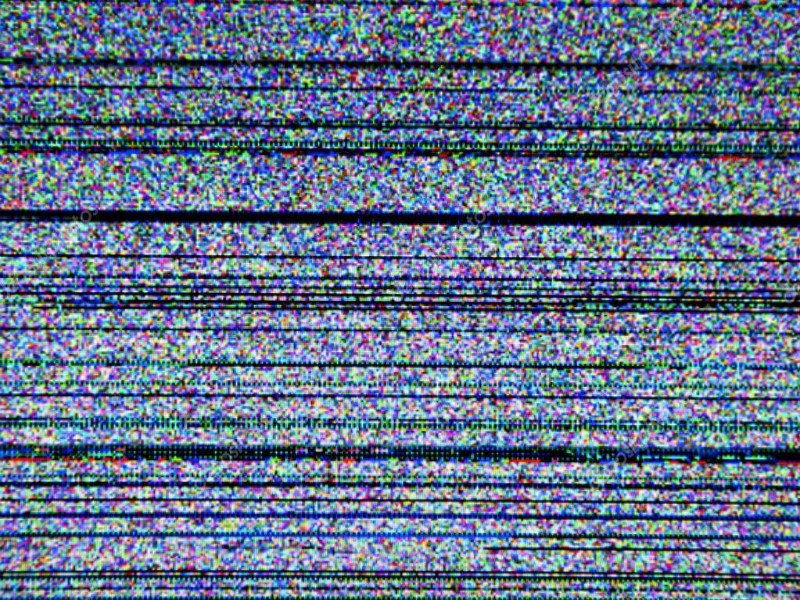
4.1. Страх
В отношении страха можно обратиться к книге Гудмана, в которой говорится, что разным субъектам территории звучащего даны разными способами. Есть люди, которые не слышат, есть животные, которые слышат в другом частотном диапазоне, человек какие-то отдельные частоты услышать не может, потому что спектр ограничен. Гудман говорит, что есть непрезентированные вибрации, которые не могут быть прочувствованы в ощущениях как звуки, но так или иначе они могут воздействовать на организм через аффекты и за границами. Он называет это «неслышимое звучащее». Есть весь спектр звучащего, есть слышимое и неслышимое. Слышимое находится в человеческом диапазоне возможных звуков, а неслышимое за ними, за границами ультразвука влияет на нейросистему, за границами инфразвука становится тактильным, то есть, воздействует на тело напрямую. Гудман определяет этот шум как «незвук» и связывает его с термином «нексус» философа Уайтхеда. Нексус — это виртуальное поле, которое окружает все тела, и в этом поле переплетаются все взаимодействия. Это поле связывает все события. Гудман указывает на французских авторов Жана-Франсуа Огуаяра и Анри Торга, у которых был проект своего рода энциклопедии под названием «Слушая окружающую среду. Гид по звучащим эффектам». В ней рассматриваются различные эффекты, вроде того же резонанса или эхо, или эффекта коктейльной вечеринки. То есть, авторы создали энциклопедию звуковых эффектов, влияния которых можно проследить как в повседневности отдельных людей, так и в общей социально-политической повседневности. Они говорят, в том числе, о том, что пространственные параметры городских сред, вплоть до расположения, насыщенности улиц и разных эффектов, связанных в том числе с определенными углами, структурируют наше сознание (можно вспомнить о Барте и о том, что то, что мы слышим, влияет на то, как мы располагаемся на
В то же время, по Гудману, «незвук» может быть использован как активная сила. Он вводит понятие звуковой войны, которое он берёт напрямую из работы Феликса Гваттари и Жиля Делёзa «Тысяча плато».
Гваттари и Делёз представляют реальность капитализма, нашей действительности, как борьбу интенсивных потоков. Эти интенсивные потоки группируются в два направления. С одной стороны это номадические потоки, свободные; с другой — работа аппарата захвата (государства, в широком смысле), который пытается собрать всё в институты и официальные науки. Номадическая (кочевая) наука изобретает другие способы мыслить. В рамках номадической науки вводится понятие «плана имманенции». Это особый тип плана. Так, есть план как чертеж (например, партитура), а в плане имманенции действие происходит не от конкретного объекта, который выражен в репрезентации нарисованного чертежа какого-то здания.
Для Гваттари и Делёза капитализм работает за счет машин войны, которые могут использоваться как в целях контроля желаний, так и в целях освобождения, то есть, за счет номадической науки. Номадическая машина войны — то, что находится в постоянной оппозиции к аппарату захвата. В широком политическом смысле — государству. Гудман говорит, что с помощью концепции звуковой войны мы можем рассмотреть два типа работы сил неслышимого звучащего или непрезентированных вибраций. Первое — силовое подавление, второе — привлечение низовых сил против доминирующей силы за счет аффективных средств возбуждения. Наиболее яркие примеры, которые он разбирает, — это «звучащие бомбы», использованные во время атаки израильской авиации на палестинское население в ноябре 2005 года. «Звучащие бомбы» — эффект, который вызывался низко летящими самолётами израильской армии, которые производили звуковые волны определенной частоты с сильным воздушным давлением. Как, например, в кинотеатрах, когда звук идёт немного сбоку, а в основном сверху и падает вертикально. Самолёт распространяет эти звуковые волны определенной частоты с сильным воздушным давлением. Это вибрационное подавление. Эти волны провоцировали у жителей в регионе коллапс нервной системы, они вызывали тошноту, головную боль, бессонницу, расстройство ЖКТ и тому подобное.
Второй пример — LRAD (Акустический прибор дальнего действия) — специальный инструмент, который был разработан одной из американских корпораций по запросу Министерства обороны США. Нужно было оружие, чтобы справляться с пиратами. Так, изобрели устройство, которое испускает пронзительный звук высокого давления, вызывающий болезненное ощущение. Впоследствии прибор стал использоваться не против пиратов, а для разгона массовых демонстраций. Как говорит корпорация, он не разрушит мембрану и не лишит вас слуха, если услышав звук, заткнуть руками уши. То есть — сделать жест «руки вверх».
Третий пример — «Армия призраков». Американское подразделение, которое действовало на территории Европы во время Второй мировой войны. В него входили звукоинженеры и физики из Bell Corporation. «Армия призраков» воспроизводила звуковые эффекты на хорошем оборудовании — например, движущихся войск, чтобы запутать противника, чтобы разведка думала, что идут танки, — и активно использовала эти эффекты, чтобы путать немецких солдат. Похожий пример был во время вьетнамской войны. У вьетнамского коренного населения есть суеверие, что в лесу можно услышать голос предков, если что-то происходит не так. Американские военные ставили в лесу оборудование, которое воспроизводило человеческие голоса, говорящие на вьетнамском языке, что вызывало у солдат религиозный коллапс: они бежали, думая, что слышат голоса предков.
В качестве номадических способов работы с неслышимым звучащим Гудман рассматривает разные низовые гетто, в которых потенциалы ритма и низких частот использовались для объединения людей, провокаций общих аффектов объединения, трансгрессии.
Он называет это «басовый материализм». Его утопический проект — постоянное создание отдельных групп, сопротивляющихся текущим режимам слушания и звучания с помощью провокации коллективных аффектов.

4.2. Фетишизм
Второй автор, который касается неслышимого звучащего, но с другой стороны — Франсуа Бонне. В книге «Звучащий архипелаг» Бонне говорит, что, помимо того, что в реальности есть какие-то неслышимые вибрации (фактические, материальные, как у Гудмана), есть еще и момент фабрикации слушания. За счет того, что у нас есть набор звуков, который мы представляем, с которым мы знаем как обращаться в слушании, и есть какой-то момент предвосхищения того, что ты услышишь, — ты всегда слышишь то, что ты хотел бы. Бонне много ссылается на Адорно, который говорит о фетишизме музыки, о том, что музыка плотно связана с фетишизмом: фетиш перестаёт восприниматься как материальный объект, становясь инструментом, теряет связь с объектом, тесно связываясь с феноменом, например, популярной музыки. Феноменальное поле может быть оккупировано каким-то изначальным посылом, например, консервация движения музыки в отдельный музыкальный стиль предполагает уже слушание такой музыки с
Если Адорно говорит исключительно о музыке, о ее фетишистском характере, Бонне говорит, что не музыка, а само слушание изначально имеет фетишистский характер, потому что слушание так или иначе контролируется и подавляется.
Он выделяет несколько проявлений дискурсивного империализма. Первый — оглушение слушания, то есть, использование специальных эффектных приёмов, например, в акустике сакральных мест, храмов и так далее. Эти специальные эффекты провоцируют в слушателе когнитивные аффекты; слушание обречено на формирование спонтанных очевидностей. Ты заходишь в церковь, звук отражается и поднимается, ты испытываешь религиозный экстаз (это пример оглушения). Второй способ проявления дискурсивного империализма — это проявление авторитета через слушание (шпионаж и контроль), третий способ — дисциплинированное слушание. В рамках третьего способа Бонне рассматривает научные теории Гельмгольца. Одна из его теорий — разделение аппарата слуха на два перцептивных механизма. Первый распознает шум, второй — гармонические последовательности, которые напрямую связаны с историей западной музыки, историей западной гармонии. Бонне говорит, что в этом разделении оказывается возможность контроля слушания со стороны дискурсивного империализма, потому что формируется определенный аппарат слуха, который воспринимает специальные («приятные») гармонические последовательности. Возможна гипотеза адаптивного механизма человеческого слушания: мембрана за счёт влияния определенной музыкальной культуры начинает вести себя особым образом. Четвёртый способ проявления дискурсивного империализма — это ликвидация слушания. В терминах Адорно это регрессия, процесс символического формирования музыкальных представлений, который лишает способность слушания возможности развиваться и предполагает фиксацию на определенных жанрах, стилях и прочем.
Звучащее, которое нас окружает, расслышать в этом дискурсивном империализме невозможно.
Но мы можем расширить наше представление о композиционном процессе. Архипелагическое слушание — это когда ты открываешь ухо для всех возможных звуков и пытаешься их рассматривать не как отдельные звучащие компоненты: мотоциклы, падающую воду, крики детей, пение хора — а как некую констелляцию, в которой что-то появляется, что-то исчезает, всё постоянно пребывает в динамике. Отчасти похоже на «Лабораторию слуха» Дзиги Вертова. Только у Бонне этот проект связан с композицией — сугубо музыкальным вопросом, потому что если использовать в повседневности постоянно и активно эти состояния, ты будешь вырабатывать в себе этот особый тип звучащего явления, выраженного в архипелагическом слушании. У меня есть вопрос к этим метафорам, которых очень много, типа «океана звука», «океана шума», «архипелага звучащего», потому что по сути оба автора — и Бонне, и Гудман — обращаются к двум концепциям Гваттари и Делёза: звуковой войны и плана имманенции. Бонне, когда описывает свои эксперименты, говорит об особом типе плана; более того, у Гваттари и Делёза определение плана имманенции содержит в том числе слово «архипелаг».
Бонне: «Нет карты, нет архитектуры, нет места для звука, нет сущности звука, есть только настройки, настройки представления. Без сомнения, прошло время слушания, которое понимает, читает, слушания, которое объясняет себя и объясняет мир. Ухо должно стать тем, чем оно является — привилегированным органом страха, оно должно сбросить метафорические гармонии сфер эзотерического алфавита или 12-тоновой системы. Слушание — это опыт появления звука, а не предвосхищения знаков, которые предоставят наслаждение, укрепят мировоззрение, порядок или авторитет власти».
Гваттари и Делёз, описывая план имманенции, говорят: «Концепты напоминают архипелаг островов или же костяк, скорее позвоночный столб, чем черепную коробку. Тогда как план подобен дыханию, овевающему эти изолированные островки. Концепты — это абсолютные поверхности или объемы, неправильные по форме, фрагментарные по структуре, тогда как план представляет собой абсолютную беспредельность и бесформенность, которая не есть ни поверхность, ни объем, она всегда фрактальна. Концепты — это конкретные конструкции, подобные узлам машины, а план — абстрактная машина, деталями которой являются эти конструкции. Концепты — суть события, план — их горизонт, резервуар или же резерв чисто концептуальных событий. План — это словно пустыня, которую концепты населяют без размежевания».
Можно называть это (в свете сказанного выше) не архипелагическим, а номадическим слушанием в пустыне звучащего. И, собственно, вот эти два первых момента. Гудман говорит про экологию страха, он говорит, что непрезентированные вибрации производят аффекты, но мы можем сопротивляться проявлению сил контроля за счет выстраивания каких-то коллективных аффектов. Гудман говорит, что нужно заняться инженерией коллективных аффектов, но не очень понятен ценз — вдруг какой-то инженер сможет сгенерировать нечто похожее на фашизм? У Бонне идет работа с фетишизмом слушания, то есть, экология страха и фетишизм слушания.

4.3. Экономика
В 1977 году французский автор Жак Аттали пишет книгу «Шум. Политическая экономия музыки». Музыка для него — это «канализация шума». Стоковые резервуары шума или разложение шума в каналы. Он говорит, что вся история музыки — это смена способов канализации шума (или производства музыки).
Человек боится шума, например, грома, начиная с первобытных времен, и начинает этот шум канализировать в определенные гармонические последовательности.
Он выделяет три этапа развития звучащих производительных сил. Первый этап — жертвоприношение, когда музыка возникает из ритуального убийства. Далее он подходит к христианскому периоду, когда музыка стала атрибутом религиозной и политической власти (период репрезентации). Третий период наступает уже после десакрализации музыки в ХХ веке, когда она окончательно оторвалась от религии и стала светской процедурой. Это период повторения, когда музыку стало возможно воспроизводить на разных устройствах и по разным радиоканалам. Он говорит, что период повторения заканчивается, музыки накапливается очень много, и он это понимает в 1977 году, то есть, прямо перед 80-ми, перед бумом танцевальной музыки. Он говорит о наступлении «периода композиции», заявляя, как и Бонне, что каждый должен стать композитором собственного слушания. Аттали говорит об экономическом аспекте, в частности, о том, что наступает время, когда стоковая яма записанного материала становится настолько огромной, что нет необходимости перепроизводить и записывать что-то ещё, а нужно брать записанные элементы, комбинировать их. Потом наступают 80-е, 90-е, развитие диджеинга и прочее. Забавно, что у Аттали есть пример фигуры жонглера-номада из Средних веков. Это были средневековые аниматоры, которые не закреплялись в конкретных местах, а курсировали по Европе и зарабатывали деньги своими выступлениями. Аттали говорит о том, что когда наступает период репрезентации и формируется глобальная религиозная система музыкального, класс этих номадов исключается властью. Лучших из них берут на работу при дворе, то есть, они уже закрепляют точки власти, а уличным музыкантам вообще запрещают выступать по Европе. Аттали намекает, что период композиции, который приходит на смену периоду повторения, тоже связан с фигурой номада. Аттали говорит, что власть использует потенциал шума: прослушка, цензура, запись, надзор являются ее оружием, технологии слушания лежат в самом центре аппарата контроля; слушать, запоминать — это иметь возможность интерпретировать и контролировать историю, манипулировать культурой людей. «Этот процесс, взятый в своей радикальной форме, превращает государство в гигантский монополизирующий источник шума. И в то же время в обобщенное средство прослушки, а музыкальные коды симулируют установленные в обществе правила».
Это три рубрики политики шума: экология страха, фетишизм слушания и экономика. Экономика как раз оказывается связующим звеном.
Этимологически экономика связана с понятием «диспозиция» (распределение всего по своим местам). Термин «композиция» может значить две противоположные вещи. Например, ты смотришь на стол, на котором что-то разложено, и говоришь об интересной композиции, или ты составляешь эту композицию, то есть, композицию кто-то составляет, а она сама говорит из того, что ты видишь или слышишь. Если экономика — это имя для диспозиции, то композиция оказывается наиболее, на мой взгляд, политически нагруженным понятием, примерно таким же, как шум в отношении звучащего. Композиция проявляется во всех трёх этих рубриках, у всех этих авторов. Относительно экологии страха это связано с тем, что есть возможность выстраивания коллективной композиции за счет аффектов, потому что Гудману важны аффекты. По Аттали, каждый должен стать композитором собственного слушания, работать с
