Фрагменты поэмы Елизаветы Мнацакановой. Интервью с автором



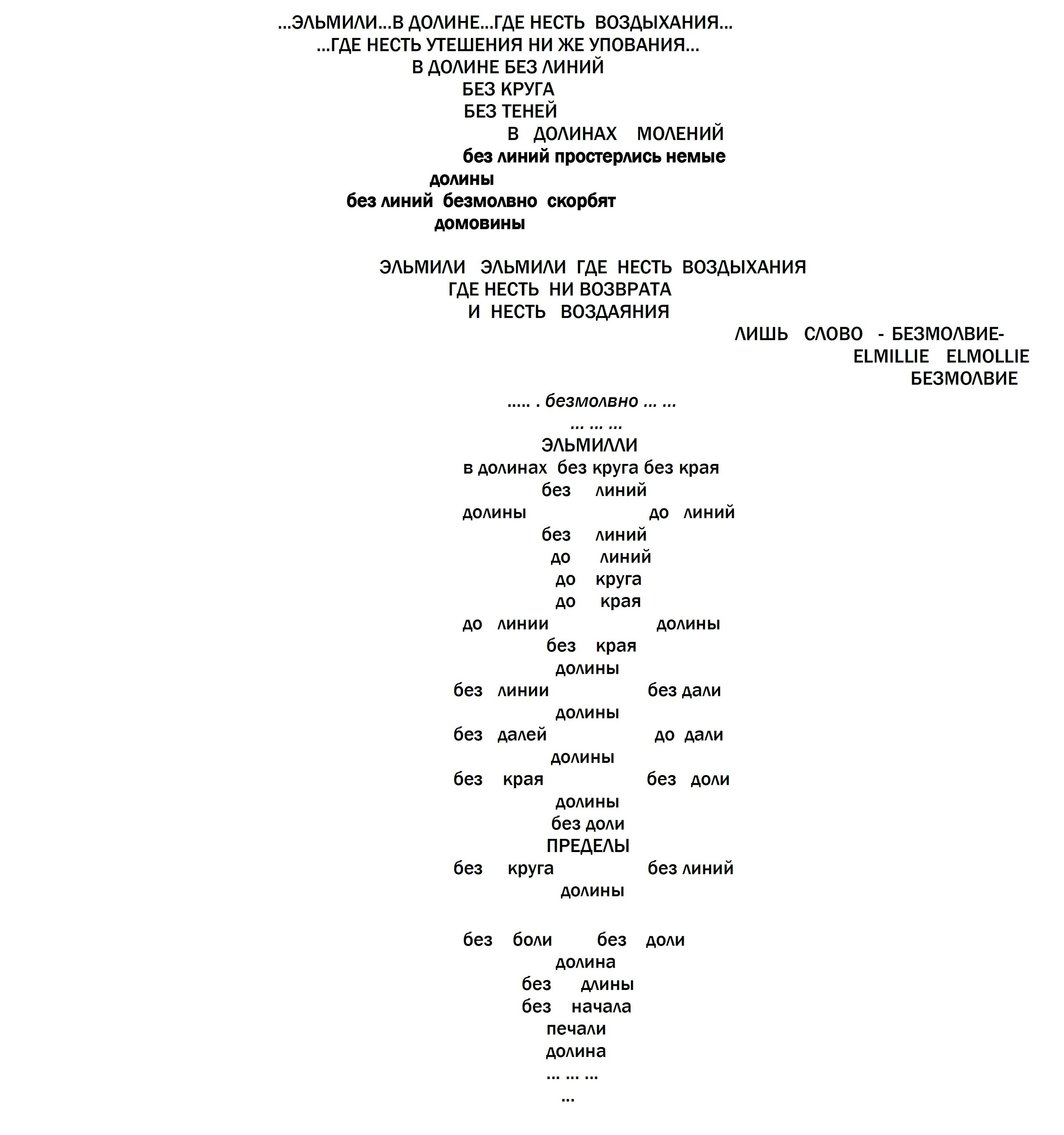
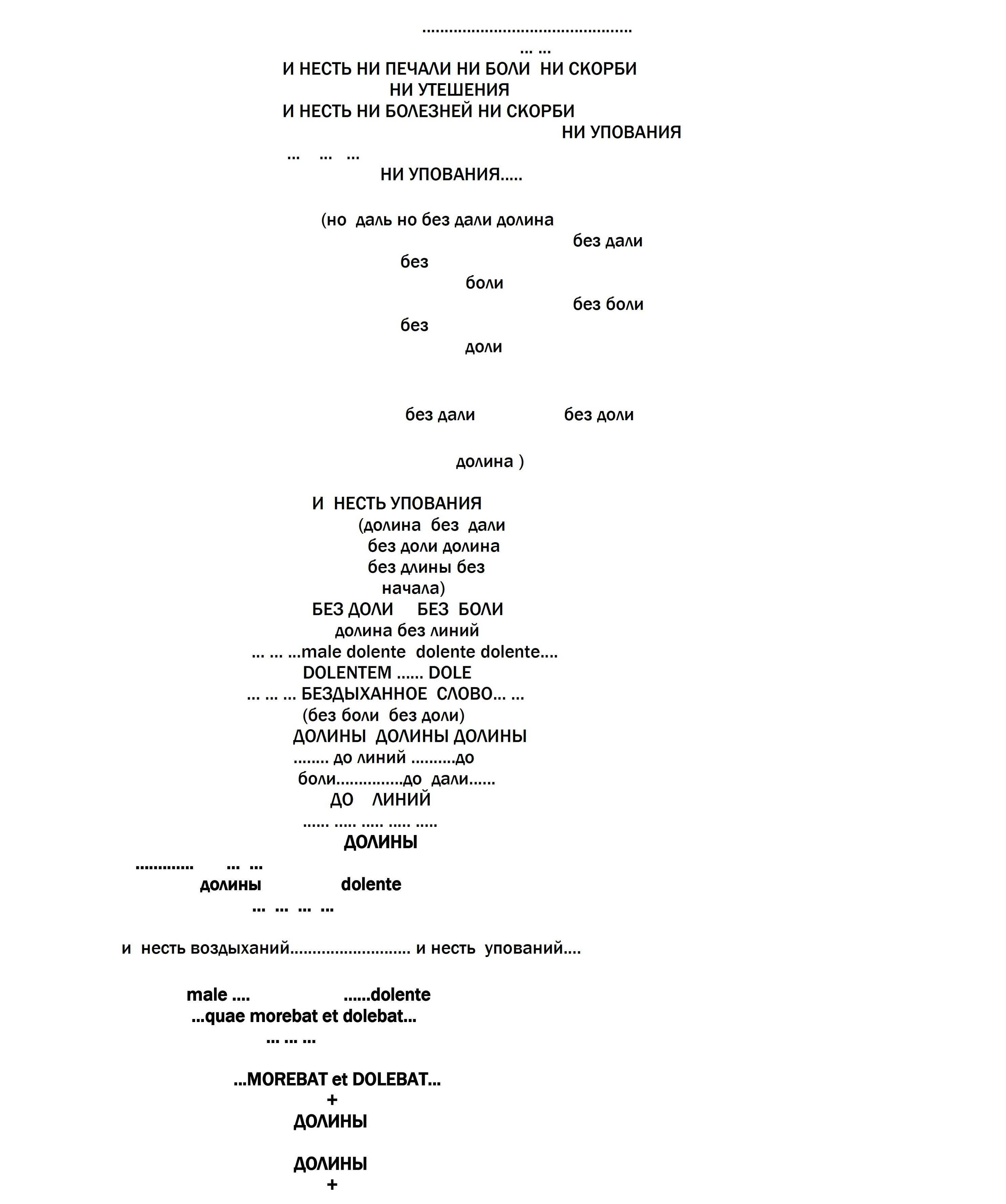
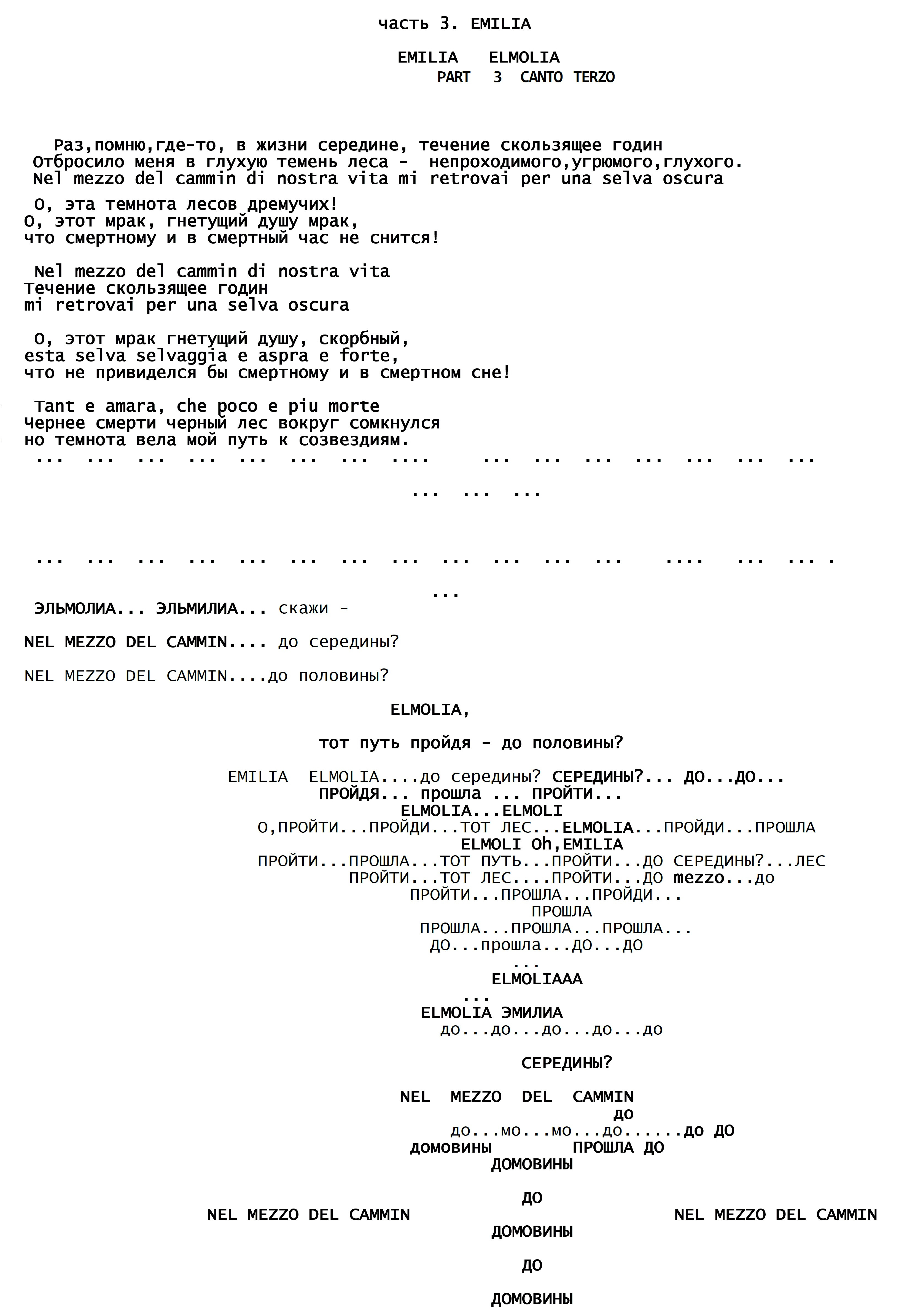

Интервью, 17 — 20 сентября 2015 года
— Вы инструментуете Ваши стихотворения, организуя их подобно музыкальным сочинениям. Как Вы пришли к этому?
Е. М.: Я всю жизнь занималась музыкой. И, как сказать, мои все работы, они принадлежат и музыке, и словам.
— Почему Вы уничтожили тексты, которые написали до 1965-го года?
Е. М.: Я уничтожила их просто с отчаяния. Но уничтожила не все тексты. Я много рукописей своих передала Генриху Беллю, когда он был в Москве.
— А как Вы познакомились с ним?
Е. М.: Как я с ним познакомилась? Вот как: спонтанно. Он приехал в Москву и захотел посетить дом Л.Н. Толстого, ну, музей. А там работала моя подруга. И она знала, что я любила его книги и очень им восхищалась. Она мне позвонила и сказала, чтобы я пришла туда. И там у Dolmetscher’a [устный переводчик, нем.] были трудности с ним говорить, поэтому я спонтанно стала переводить, и так мы с ним сразу подружились. И после этого случая мы были в контакте.
— Как Вы открыли для себя творчество Пауля Целана? Насколько известно, Вы читали и переводили его в шестидесятых годах, когда в СССР его не знали.
Е. М.: Да. В Москве жил его друг, филолог, Эрих Айнгорн. Он взял русское гражданство. Он был женат на русской женщине. И, в общем, мы с ним познакомились. Наши интересы сошлись. Он был большой друг Целана, друг детства. И они до конца жизни Целана находились в переписке. Целан все собирался приехать в Москву, но это ему, по-видимому, не удалось. Эрих ему сообщил, что я его перевожу. Он жил в Париже, у него там была семья: жена и сын. Я не знаю, жив ли его сын. Целан покончил с собой, я сейчас не помню точно год: это было весной. Однажды где-то в мае мне позвонил Эрих (я была на работе) и сказал: «Сегодня из Сены выловили труп Целана»… У меня не получилось начать с ним переписку, потому что с ним общаться было трудно: он был в последние годы не то что не в себе, — он был болен.
— Поэма «Осень в лазарете невинных сестер» была написана после клинической смерти в 1971 году. Что с Вами тогда случилось?
Е. М.: Это у меня были очень тяжелые роды. Когда сын родился, никто не надеялся, что он выживет, но он прекрасно живет и работает, и имеет детей.
— В 1975 году Вы эмигрировали в Вену. Почему именно в Австрию? И как у Вас это получилось?
Е. М.: Тогда была так называемая волна эмиграции. Члены, по-моему, еврейской общины (или что-то такое) хотели эмигрировать в Америку. И это было политически им устроено, я даже не знаю, с чего. В общем, вдруг было разрешено людям эмигрировать совершенно просто. Надо только было себя в
— Генрих Сапгир пишет: «Вскоре Мнацаканова уехала в Вену. Но перед отъездом на глазах всех советских композиторов (а она жила в доме Союза композиторов на улице Готвальда) вынесла на помойку целую гору нот советской и русской музыки (включая, говорят, Мусогорского)». Это правда?
Е. М.: Нет (смеется). Во-первых, у меня не было много нот этой музыки, и потом я на такие жесты никогда способна не была. И я бы никогда не выбросила ноты, где написано было хотя бы, ну, две ноты, так сказать, звучащие. Это неправда, я не выбросила. Я даже не знаю, откуда эта легенда пошла.
— Забавная легенда.
Е. М.: Да. Но это неправда.
— Я знаю, что Вы общались с Эрнстом Яндлем. Что для Вас значило это знакомство?
Е. М.: Когда я приехала в Вену, я была очень хорошо принята, ну, не всеми писателями, а поэтами направления моего. И я с ним просто познакомилась, и подружилась. Я до сих пор нахожусь в контакте с его подругой — большой австрийской поэтессой — Фредерикой Майреккер. Она живет недалеко от меня. Правда, как мне говорили, сейчас уже не выходит никуда из дома, но мы перезваниваемся. И был даже такой проект из
— А самого Эрнста Яндля Вы переводили?
Е. М.: Я перевела несколько стихотворений. Это было опубликовано. Но Яндль мне был не очень близок духовно, так сказать.
— Общались ли Вы с Хансом Карлом Артманном?
Е. М.: О, да! Мы были друзья. Он был добрый, экспансивный. В свое время мы делали два больших вечера в галерее, которая называлась Prisma. Мы уже пользовались какой-то репутацией оба, и галерея — это была их инициатива — устроила нам совместные чтения. Артманн читал свои стихи, а я спонтанно переводила их. Там было много русских из посольства и просто так. Это был большой успех: по-моему, было много в прессе об этом. Вот. Но Артманн по своей природе был такой скандалист: на последних чтениях он почему-то устроил скандал… И он говорил, что ему нравились русские варианты стихотворений больше, чем его собственные (смеется). Но наша дружба вскоре оборвалась, потому что он умер: он был болен сердечно.
— Что, в целом, Вы думаете о Венской школе авангардной поэзии? Насколько Вы соотносите себя с ней?
Е. М.: Я никаких школ не понимаю и не знаю, и не принадлежу ни к каким школам. С Артманном я была близка и дружна, потому что я очень ценила его как поэта.
— Ольга Седакова однажды написала, что «органический дар высокого модерна» есть только у Вас и у Геннадия Айги. Согласны ли Вы с таким определением?
Е. М.: Ну, я не знаю… С Айги я однажды, по-моему, встречалась и, насколько помню, было совместное чтение. Но он не знал немецкого языка. На вечере я переводила его стихи, и публика была немного в затруднении.
— Как Ваши работы попали в Альбертину?
Е. М.: Директор Альбертины был замечательный человек, он очень восхищался моими графическими работами. И вообще мы с ним очень подружились. У меня есть книги: там тексты наполовину живописные, наполовину, значит, буквенные. Он сделал большую выставку там, в Альбертине. И он купил их для коллекции, затем выставлял их много раз. Это очень редко случается с живущими мастерами.
— Ведь Ваши книги привозили и на симпозиум в Гарварде в 2004 году, который был посвящен Вашему творчеству?
Е. М.: Да. Я была приглашена туда. И там были выставлены мои книги, которые Гарварду я подарила. Они до сих пор хранятся в библиотеке Гарварда.
— Альфред Шнитке в одном из своих интервью говорит, что, когда он попал в Австрию, Вы показали ему школу антропософов, где Вы преподавали русский язык.
Е. М.: Я там работала несколько лет. Мы были друзья с ним. Он был прекрасный человек очень хорошего скромного характера, и, кроме того, талантливый композитор, может, гениальный. Но мы редко встречались. Когда он приезжал, он играл мне. Он был по своему существу смелый новатор, и его музыка не имела популярности. Я пыталась ему что-то устроить здесь, но это как-то не вышло. Я его знала, еще когда он студентом был, но тогда ему было трудно: никто в него не верил. Я потом уехала, и он меня посещал несколько раз. Он охотно говорил по-немецки. Ну, я тоже очень хорошо знала с детства.
— И откуда Вы знали?
Е. М.: Видите как: мой отец свою молодость провел в Париже и знал он много языков. И я с детства знала немецкий язык и с детства читала немецкие книги. Вот. Он меня хотел учить французскому тоже. Но не успел: он умер. Французский язык я, к сожалению, не выучила. А немецкий я знала, ну, не как мой родной язык, — не так хорошо, как русский, — но
— А армянский?
Е.М.: Нет. Армянского я не знаю; не умею ни читать, ни писать. Но у нас были армянские родственники отца, которые приезжали из деревни. Мой отец родился в армянской деревне, я не знаю, какой. Но он чуть ли не пешком лет в пятнадцать ушел в Москву и окончил московский университет с отличием. Он работал в Москве, а потом началась империалистическая война, и он был, значит, главный врач полевого госпиталя русского. Там он встретился с моей матерью, которая окончила медицинские курсы и добровольно пошла на фронт. И они на фронте поженились. Вот. Ну, и потом он каким-то образом попал в Баку. Тут ему посчастливилось: его сделали главным врачом какой-то клиники.
— В юности Вы понимали, что жили в тоталитарном сталинском государстве?
Е.М.: Нет, я не понимала сначала, и кто это понимал из моих сверстников? Но мы очень быстро поняли это. Когда Сталин с Гитлером заключили пакт, то это был большой шок для многих людей.
— Как Вашей семье жилось во время Второй мировой войны?
Е. М.: Ну, трудно было жить во время войны. Но это трудно было всем. Я училась в школе, во время войны находилась в Баку. В Баку не было войны. В Баку было как-то… ну, как Вам сказать, город был защищен, в
— В 1945 году Вы поступили в МГУ. Почему Вы ушли оттуда в Московскую консерваторию?
Е. М.: Это было сложно совмещать вместе. В консерватории я училась на двух факультетах: на теоретическом и на фортепианном. Значит, я закончила консерваторию как музыковед и как теоретик.
— А учились Вы у Шостаковича?
Е. М.: Ну, что Вам сказать. Его ученицей официальной я не была. Он преподавал несколько предметов, и я была в группе по одному из этих предметов. Вот. Он меня очень любил, и потом: он был женат на моей близкой подруге. Я была уже первый год в Вене, когда он умер, — я не была на его похоронах. Но с его вдовой я до сих пор в тесном контакте, все время переговариваемся по телефону.
— Спасибо.
_______________________
За помощь в подготовке публикации выражаются благодарности Юлии Соловьевой, Александру Скидану и Владимиру Аристову.
