Чувство всемирной истории и спекулятивный реализм
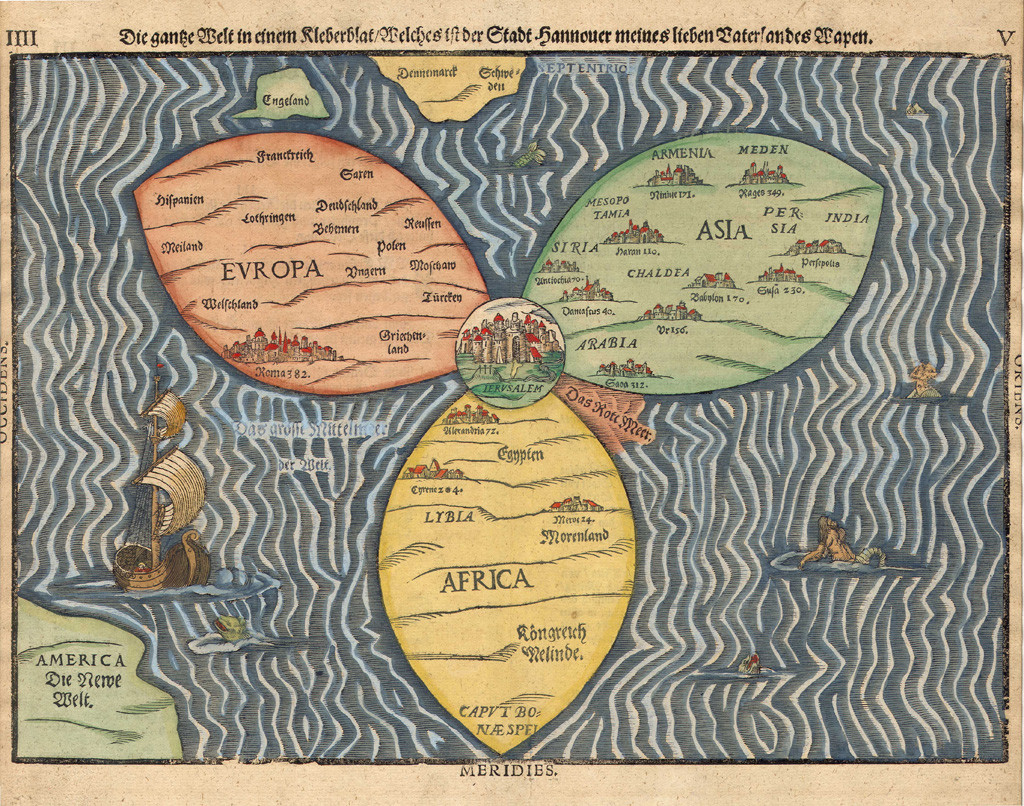
Лекция преподавателя РГГУ Александра Маркова на 1 Зимней философской школе в Перми (24 января 2013).
Всемирная история — это не просто совокупность фактов или совокупность действий; не просто совокупность предприятий, противоположность совокупности вещей. Встречается упрощенное понимание, что история занимается событиями, в отличие от естественных наук, занятых вещами. История изучает процессы, а науки утверждают факты. Здесь смешиваются два философских тезиса. С одной стороны, тезис о знании как о констатации, тезис, ставший достоянием европейской философии Нового времени. А с другой стороны, классическое античное представление об историографии как, прежде всего, практической дисциплине, изучающей те или иные события, которые потом можно конвертировать в конкретную политическую или социальную практику.
Под понятием всемирной истории я имею в виду представление, что в истории существует некоторая непрерывность социальных законов; причем естественные законы могут быть вполне прерывными. Например, облик всемирной истории не изменился бы, если бы было открыто, что естественные законы за период, доступный нашему историческому изучению, менялись. Если будет доказано, что в Средние века вода кипела не при ста, а при девяноста пяти градусах, или сила земного притяжения была другой, то это, конечно, перевернет состояние современных естественных наук, во многом процессуальных, но ни в коем случае не изменит наше представление о всемирной истории. Подразумевается, что механика социальных событий и вовлечение каждым предыдущим событием какого-то нового социального события гораздо важнее, чем непрерывность тех условий, в которых эти события происходят.
Именно в этом всемирная история как познавательный проект отличается от локальных историй, истории страны, истории национального государства в Новое и Новейшее время, истории города, коммуны, или какого-либо сообщества. Локальная история очень тесно устанавливает связь между материальным и идеальным: между естественными условиями событий и теми идеями, которые проявляются в конкретных исторических действиях и поступках. Локальная история будет очень большое внимание уделять физическим законам: тому, какая была погода, какие обстоятельства помешали что-то сделать, — выискивая оправдания или объяснения исторических событий.
А всемирная история — дисциплина беспощадная. Она не может объяснять то или иное событие только из материальных условий его проявления, или исходя из действия неотвратимых естественных законов. Другое дело, какие законы ставятся на место естественных. Это могут быть социальные или экономические законы; но в любом случае выносится за скобки то действие естественных закономерностей, которое важно для локальной истории.
Это позволяет говорить о всемирной истории как о своеобразном риторическом продукте, как об определенном способе описывать события, не соотнося их ни со вполне идеальным, ни со вполне материальным.
Два проекта всемирной истории
Проект всемирной истории, если говорить хронологически, возникал по крайней мере дважды. Это античный проект всемирной истории, открытый Полибием, попытавшимся осмыслить триумф Римской империи. И это проект просвещенческий и послепросвещенческий, проект XVIII и первой половины XIX века, связанный с Гердером, Гегелем и с теми славными историками, которые работали и создавали концепцию всемирной истории.
Цели у той и другой истории были разные. Если античная всемирная история должна была выяснить, почему сохраняется непрерывность политической жизни вопреки войнам и катастрофам, разрушению одних стран и возникновению других; почему постоянно при этом воспроизводится наличный набор форм политической жизни: везде возникают монархии, везде возникают демократии. Такая история исходила из простой предпосылки: всё подвержено порче; и мысль, и материя устаревают, все доходит до своего конца и до своего предела, и только форма неизменна. Всемирная история оказывается функцией формы.
Тогда как в проектах всемирной истории, возникавших уже в Новое время, и проектах, внутри которых мы во многом и живем, потому что на строй нашей мысли они влияют сильно, появилось новое представление: есть содержание эпохи, в котором эпоха равна сама себе. Основной единицей всемирной истории становится не форма политического строя, а эпоха. Эта эпоха, будучи совокупностью некоторых формальных критериев, допустим, определенных социальных отношений, определенных экономических отношений, определенного умонастроения, сама себя обособляет от других и тем самым обретает собственное содержание.
Если для античного всемирного историка содержание истории уже есть данность, то для историка Нового и Новейшего времени содержание всякий раз реконструируется исследователем и всякий раз конструируется в самом историческом процессе. Такое понятие об истории, конечно же, было связано, в том числе, и с институциональными условиями функционирования философии в университетах. Развитие философии в Новое время отмечено двумя встречными и двумя очень интересными процессами.
С одной стороны, постепенно исчезает та роль, которую философы брали на себя и в XVII, и отчасти в XVIII веке, — роль философа как советника. Когда Кант и его современники говорили, что философ — тайный советник, они тем самым пробалтывались и подводили итог большой традиции, в которой философская рефлексия развивается параллельно с развитием целого ряда практик, отличающих Новое время, таких как новый порядок войн, дипломатии, появление новых языков, новых средств коммуникации и транспорта. При таком бурном развитии разного рода коммуникативных в широком смысле практик философ и был неким советником, который позволял ориентироваться среди множества этих практик и создавать те речевые формы, которые придают смысл этим отдельным практикам, ориентированным на отдельные интересы. Амплуа философа не только как мыслителя первых начал, но и как государственного мужа или воспитателя, амплуа, свойственное всем крупным философам до появления независимых просвещенческих интеллектуалов и до появления независимого философского производства во второй половине XVIII века, — говорит о том, что философия развивается параллельно с очень динамическим развитием социальных практик.
С другой стороны, постепенно происходил процесс научной специализации, и философия становится историчной, начинает мыслить об истории (в лице мыслителей, начиная с Гердера, если не с Вико) именно на фоне появления новых специальностей. Если каждая специальность сама себя обосновывает и в этом смысле уже не нуждается в философской рефлексии, философских обобщениях, то единственный способ для философии вернуть себе привилегированное положение — это начать производить собственное историческое содержание, которое будет указывать на историзм в каждой отдельной дисциплине. И чем больше происходит специализация научных направлений, тем больше философия претендует на создание именно парадигмы историзма, которая и впишет вот эти производимые смыслы, партикулярные смыслы, производимые каждой кафедрой, в некоторый общий смысловой контекст эпохи.
Экономика истории
Но вся эта картина — здесь мы пока еще оставались, скорее, в пределах социологии и науки — не будет полна, если мы не будем учитывать главного события, внутри которого развивается не только историческая философия, философия, ставшая для нас уже прошлым, но и современная философия. Это появление при капитализме различия между микро- и макроэкономикой. Это различие было неизвестно предшествующим эпохам развития производительных сил, потому что любые микроэкономические отношения рассматривались как продолжение макроэкономических и наоборот. Всё зависело от личного успеха и, можно сказать, личной доблести конкретного экономического агента. Поведение государств ничем не отличалось особенно от поведения частных экономических агентов; и единственным регулятором экономических отношений могло выступать только право, но не собственно внутренние экономические законы, которые оставались полностью непрозрачными.
Разделение на микро- и макроэкономику началось еще в итальянских торговых городах, которые, например, могли вести собственную протекционистскую политику и соединять завоевательную политику с экономическим протекционизмом. Капитализм в этом смысле представляет собой не что иное, как определенное разделение человеческой активности, разделение ее на частную инициативу, которая представляет собой действия по определенным правилам в соответствии с теми законами, которые действуют, и инициативу общую, макроэкономическую политику государств
План новой экономики всякий раз уходил из поля видения локальных историков, и события, которые на самом деле нужно объяснять просто внутренним устройством экономики, устройством его как системы, объяснялись через привязку к отдельным страстям и отдельным интересам.
Макроэкономика создает возможность бесконечного присвоения новых смыслов, бесконечного воспроизводства одних и тех же отношений и сохранения общего равновесия системы при значительных колебаниях. То есть в какую бы авантюру ни пустился бы отдельный политик или предприниматель, общее равновесие системы не будет поколеблено. Именно потому, что новая экономика существует как система обязательств, залогов. Это всегда тщательно разработанная налоговая, таможенная и прочая система, институциональные формы, направленные на предельное равновесие интересов акторов. Не только экономическая, но и политическая и правовая деятельность начинают диктоваться некой безликой и совершенно автономной машиной.
Точно так же начинает мыслиться во многом и познание: если в былое время познание мыслилось, прежде всего, как некоторая техника, то когда техника становится автономной и самовоспроизводимой, познание мыслится прежде всего как присвоение, как определенная скупка еще не познанного, даже того, что не скоро будет познано.
Философское производство
Соответственно, нужно понять, что происходит в философии в целом. В философии не как в создании отдельных философов, не как в отдельных философских системах, а как в философском производстве, если так можно говорить. Прежде всего, главное, с чем пришлось иметь дело вообще всей философии XX века, — это с тем, что специализация только увеличивалась. Все попытки ввести некоторый теоретический пласт, некоторую теорию, которая бы контролировала это производство, всякий раз проваливались. Теория, которая должна была выступать как некоторый общий регулятор, как некоторый общий набор дискурсивных правил для производства, всякий раз оказывалась бессильной перед новыми усилиями производства.
Можно сказать, что теория, скажем, в гегельянском или неокантианском понимании функционирует, как своего рода стандарт. Теория — это способ контроля над тем, насколько высказывания, философские или вообще интеллектуальные, соответствуют некоторым дискурсивным стандартам; получается ли у нас тот дискурс, который на самом деле продуктивен и на самом деле отвечает некоторым цивилизационным задачам. Так же стандарты производства служат не только целям безопасности — обезопасить от производства опасных вещей, — но также и целям некоторого приведения к понятию о цивилизации: допустим, кустарное производство не будет стандартизировано не потому, что оно вредное, не потому, что кустарные вещи нанесут какой-либо ущерб, экономический или физический, а потому, что это не соответствует некоторому цивилизационному стандарту.
Наравне с теоретическим проектом, постоянно провальным, был важен проект герменевтический. И герменевтика настаивала на том, что следует отказаться от разделения на теоретическое знание и специализированное знание. Герменевтика совершает очень интересный ход. Она начинает оспаривать не когнитивные причины разделения на теорию и специальное знание (как на макро- и микроэкономику), начинает оспаривать не общую экономическую рамку производства какого-либо интеллектуального продукта, а начинает оспаривать понятие факта. Для герменевтики любой факт является фактом языковой практики.
Герменевтика исходит из того, что всякий факт представляет собою некий неготовый продукт. Для герменевтики в некотором смысле история действует примерно так, как действует компания «Икеа», поставляя на рынок продукты, которые нуждаются еще в некоторой сборке. Герменевтика пытается изменить саму нашу оптику, сам способ видения проблемы: мы должны отучиться смотреть на факты как на некие готовые свидетельства о происходящем, как на то, что полностью свидетельствует о практике и что позволяет философии стать практической дисциплиной.
Но во всех философских проектах Нового времени философия может влиять на социальную практику именно благодаря тому, что она схватывает все практики как готовые практики, как практики завершающиеся. Настоящего триумфа такая позиция достигла у Гегеля с его идеей завершения всего в момент философской рефлексии. Чтобы философия стала не только теоретической, но и практической наукой, она должна отнестись к миру как к миру уже завершенных, состоявшихся и довлеющих себе факторов.
Герменевтика пытается рассмотреть факт как незавершенное, как недоконченное высказывание, которое потом продолжается у того, кто это высказывание воспринимает. Другое дело, что герменевтика могла проделывать такой фокус только тогда, когда имела дело с состояниями упадка, состояниями падения государств; развитие герменевтики стимулировалось опытом разрушительных войн. Именно тогда она могла употребить свои метафоры для осмысления опыта прошлого. Сопоставить историю и текст можно было, только если предположить, что история может так же погибнуть, как и текст, что катастрофа — допустим, катастрофа Первой или Второй мировой войны — может быть тотальной. Тогда можно сказать, что и текст может погибнуть, и история может погибнуть, последовательно и историю, и собрание фактов можно рассмотреть как текст.
Герменевтика, конечно, и в лице Гадамера, и в лице Рикёра имела дело со всемирной историей. Именно во всемирной истории привлекал ее самодовлеющий характер факта, принципиальное отличие исторического факта от естественнонаучного факта, нуждающегося в инструментальной поддержке природы. Из этого делался вывод о возможности метафоризации истории, о возможности превращения истории в дисциплину и герменевтики истории в дисциплину, которая состоит исключительно из метафор, описывающих функционирование текста и функционирование самой исторической экзистенции. Равно метафорически можно сказать, что текст забылся и потерял часть смысла, и что история развивается определенным катастрофическим образом.
Другое дело, что такой переход от научного рассуждения к метафорическому должен быть каким-то образом мотивирован. У Гадамера он мотивируется просто историческим состоянием, в которое мы попали: в нашем историческом состоянии уже не осталось никаких устойчивых высказываний о прошлом, любое высказывание о прошлом будет противоречиво, поскольку оно исходит уже не из того опыта, который был у тех, кто делал эти высказывания о прошлом в прошлом. Тогда как Рикёр просто изобретает нового субъекта, субъекта метафоризации, который спасает от забвения историю. Такой субъект всякий раз мыслит образно и тем самым продолжает, по сути дела, эпоху: он отвечает за содержание эпохи.
Здесь происходит очень важное смещение: в немецком идеализме каждая эпоха сама себя обособляет, просто будучи совокупностью некоторых практик производства, которые венчаются интеллектуальным производством. Интеллектуальное производство задает законы для производства, и оно же является высшей ступенью некой эволюции капиталистической миросистемы. В герменевтическом проекте, происходит достаточно странная вещь: спор с капитализмом решается просто через декларирование катастрофичности положения человека. Для этого приходится изобретать особого катастрофического субъекта, опять же существование которого ничем особенно не доказывается.
Историческая философия поступка
Всемирная история с некоторого момента начала пониматься как некая общая наука, позволяющая находить общие законы исторических процессов; но она к этому не сводится. Главным для нее сохранять эти законы от некоторых переучетов, от некоторых возможных ревизий самого материального содержания этих законов. Цель всемирной истории и цель рефлексии над всемирной историей — не только сказать, что в истории действуют такие-то законы, например экономические, но и объяснить, почему открытие, например, психологических законов или тех или иных культурных закономерностей не требует от нас переписывания всей всемирной истории.
Здесь, конечно, сказалось противостояние всемирной истории и локальной истории. Поскольку вопрос о переписывании локальной истории даже не ставится, потому что ее переписывают постоянно, в любой стране любая история по десять и по двадцать раз переписывается. Историческая политика, это есть не что иное, как постоянное, бесконечное переписывание истории.
Понятно, что интеллектуалы считают своим главным долгом спасти всемирную историю от этого переписывания, утверждая ее как общее и обобщающее знание, а не как знание об отдельных вещах.
Соответственно, одни и те же феномены будут выглядеть в локальной и всемирной истории по-разному. Допустим, в локальной истории поступок будет некоторым исключением, и всегда поступок как таковой будет оспариваться: действительно ли это поступок или действие под влиянием обстоятельств. Именно потому, что локальная история постоянно переписывается, но, с другой стороны, единственный способ сохранить ее идентичность — это дойти до некоторых причин частностей.
Тогда как во всемирной истории как раз, как ни странно, частный поступок частного лица может значить гораздо больше. И все эти пародии на всемирные исторические дискурсы о том, что великие события объясняются насморком Наполеона, как по Льву Толстому в его критике идей всемирной истории, критике гениальной и, конечно, недооцененной, — все это просто говорит о парадоксе всемирной истории. О том, что всемирная история это scientia generalis, наука о самых общих закономерностях; но так как она не переписывается, так как в ней никакой переучет невозможен, любое яркое событие, любой поступок приобретает всемирное историческое значение. И это становится, разумеется, сразу проблемой для философской рефлексии, которая
Известного рода мыслительные эксперименты, которые показывают нерациональное поведение человека, вроде дилеммы заключенного, не находят подтверждения в локальной истории, которая описывает любой поступок как результат какого-либо интереса, — но находят постоянное подтверждение во всемирной истории. Историю мировых войн вполне можно описать в терминах дилеммы заключенного. Государства устраивают бойню именно потому, что каждое из них не может осуществить рациональное поведение в своем когнитивном горизонте.
Более того, развитие в последнее время таких дисциплин, как, например, экономика знания, как когнитивное исследование рыночного поведения, как многочисленные постиндустриальные исследования, в том числе, и культурные исследования, для меня во многом является своеобразной научной параллелью к тому, что делает спекулятивный реализм. Наподобие того, как, допустим, гегельянство и вообще идеалистическая философия развивались параллельно с развитием естественных наук и представляли собой ответ на то, что научное поле стало уплывать из рук философов, что философ уже не может быть биологом, или химиком, или физиком, а вынужден опираться на готовое знание, тем самым легитимировать историю как область готового знания, — точно так же и спекулятивный реализм, утверждающий автономию вещей, возникает параллельно с научным развитием, с развитием когнитивных дисциплин, с развитием теории игр и многочисленных других направлений, каждое из которых имеет свою философскую базу, чаще всего логико-аналитическую, но, тем не менее, вместе они образуют новое поле специализации. Точно так же, как, скажем, полем специализации в XVIII веке были гуманитарные науки, а в XIX веке — естественные науки, точно так же полем специализации в XXI веке становятся когнитивные науки. Под полем специализации имеется в виду, что благодаря развитию социальных практик развиваются и отдельные научные дисциплины, и, следовательно, развиваются и многочисленные подходы.
Спекулятивный реализм и история
Какие важные черты новой рефлексии всемирной истории говорят о важности спекулятивно-реалистического проекта? Есть еще одно важное отличие всемирной истории от локальной истории. В локальной истории причина всегда больше следствия. Локальная история — это всегда эксплуатация старых риторических механизмов, а любое риторически устроенное знание исходит из того, что причина всегда выше следствия. Причем вся риторика основана на не вполне законном отождествлении различных видов причинности. То, что выше, становится для риторики и больше, и главнее; и риторика выступает как построение семантических рядов, которые позволяют отождествить эффекты понятий.
Соответственно, через генерализацию причины возможна и любая апология данной причины, и построение соответствующих дискурсов. А в проекте всемирной истории, наоборот, всегда следствие превыше причин. Всегда причина может быть ничтожной, случайной, контингентность приписывается именно миру причин, тогда как континуальность и связанность — миру следствий.
Философия, понимая, что происходит вокруг, долгое время не могла работать со всемирной историей и найти в ней ресурсы социальной. И здесь самым главным фатумом континентальной философии, с которым и пытается покончить спекулятивный реализм, стало разделение на сущность и явление. Разделение не в классическом и даже не в кантианском понимании, а в посткантианском. Вся мысль XX века удерживала определенное понимание сущности и явления, связанное с механикой суждения.
Здесь нужно обратить внимание на большое различие между классической философией и новой или новейшей философией: в классической философии суждение выносится как раз о явлении. Сущность принадлежит истине, а не суждению. Но то, что для классической мысли было миром неустойчивых суждений, доксы, частных мнений, то становится миром философской работы в Новое время. Здесь в философии сработала экономическая логика, в которой любое действие, любое производство есть не реализация какого-то явления, а определенная сумма экспертных суждений, которые и создают реальность. Если раньше производитель учитывал просто правила производства, и торговлю рассматривал тоже как определенный вид производства — производства денег за счет вещей, то капитализм требует выносить большое количество суждений о конъюнктуре рынка, о состоянии денежной системы, об инфляции, о возможном партнерстве и так далее. То есть, по сути дела, участие в капиталистическом производстве — это жизнь в мире постоянных суждений и постоянного вынесения суждений.
Если раньше все решения о производстве, покупке и продаже принимались на основании частных мнений, частных желаний и частных потребностей, то в новой экономике всякому такому решению, всякому такому суждению предшествует некоторая очень сложная рамка постоянно выносимых и требуемых суждений, причем суждений, имеющих обязательных характер. При этом подразумевается, что создается некоторая сущность, что экономика и претендует быть субстанцией всех вещей, что если былое производство жило в мире мнений, то новое производство живет в мире производимой сущности. Постоянно производится сущность или субстанция самого капиталиста. Соответственно, и философская работа тоже начинает пониматься как постоянное вынесение мнений и вынесения суждений о вещах. При этом всякий раз именно когда заходит дело о всемирной истории, это постоянное производство суждений останавливается. Ведь в случае со всемирной историей мы имеем дело с чистой манифестацией экономического предела, который становится и логическим пределом.
В спекулятивном реализме опровергается главный догмат этой культуры суждений, а именно, что всякое суждение до некоторой степени эффективно — тот догмат, который был унаследован от классической философской традиции. Для классической культуры вообще любое мнение ведет за собой действие или бездействие. Очень много бывает недопониманий античной философии, связанных с тем, что докса заведомо считается чем-то презренным: это мнение толпы, мнение обывателей, а вот античные философ создали начали служить истине с большой буквы, забросив все эти мнения софистов. На самом деле, если мы обратимся к Аристотелю, к самым авторитетным примерам классической философии, то мы увидим, что как раз докса занимает в этой философии достаточно большую роль именно как технология практического производства. Каждая докса — это ноу-хау для производства чего-либо. И именно такой статус доксы был приписан и статусу новоевропейского суждения, притом что как раз суждение в классической философии не было производящим, оно останавливало механику производства: кризис (κρίσις от κρίνω), суждения, суд. Это остановка действия всех старых законов, остановка действия производства и начало введения новых правил производства. Тогда как в новой экономике невозможно ни остановить производство чего-либо, ни ввести новые правила производства, поскольку каждое правило возникает автономно.
Спекулятивный реализм — это первое философское направление, которое оспорило это отождествление мнения и суждения, эту трансплантацию классической доксы и транспонирование ее на культуру философских суждений. Та критика суждений, которую подразумевала кантианская философия, действовала несколько с другой стороны, а именно, рассматривала структуру суждения так, что никакое суждение до конца не свободно от репрезентации, что любое суждение — до некоторой степени репрезентирующее или репрезентативное. Следовательно, нам сейчас нужно найти такие репрезентации вроде кантовских схематизмов, которые и лягут в основу критики любой репрезентативности суждения, которые позволят не сводить различия между сущностью и явлением к законам производства и потребления, а сохранят автономию интеллектуальной деятельности.
Из таких важных проектов спекулятивного реализма следует напомнить, допустим, проект Хармана, связанный с критикой инструментальности. Я имею в виду известнейшую книгу Харман о Хайдеггере, книгу посвященную рассмотрению хайдеггеровской идеи инструментальности, в которой показано, что Хайдеггер, который начал тоже с разделения между сущностью и явлением, начал с феноменологического проекта, постепенно через механику языка, с одной стороны, и через постановку вопроса о причинности, проблематизацию причинности, с другой, вышел к новой доксе. Для Хармана главная заслуга Хайдеггера состоит не в опровержении субъектно-объектной связки, а в опровержении аксиологии причинности, в опровержении того, что якобы мы можем мыслить о причине и следствии только нечистых аксиологических категориях: что важнее, причина или следствие.
Хайдеггер, как утверждает Харман, критиковал эту аксиологию, и проект Бытия и времени — проект антиаксиологический, а не антионтологический, как его часто понимают. Хайдеггер, опровергнув эту аксиологию, ввел новое разделение на действующий и недействующий инструмент. Хайдеггер отождествляет суждение с инструментальностью и сопоставляет технику производства с историей с вопросом о технике.
Если мы обратимся к такой работе Хайдеггера, как «Понятие истины у Гегеля», — это единственная знаменитая работа Хайдеггера, которая, кстати, не переведена почему-то на русский, — то мы увидим, что как раз Хайдеггер пытается всемирный исторический проект Гегеля, проект всемирной истории, определить как проект создания такой метафеноменологии, как превращение всемирной истории в одно большое явление, которое само будет причиной для своих суждений, то есть которое восстановит классическую доксу. Хайдеггер рассматривал как раз Гегеля как человека, который предпринял наиболее серьезную попытку возвращения к классическому философскому идеалу, к классической доксе.
Различение между хорошим и плохим инструментом, между эффективно действующим инструментом и неэффективно действующим инструментом позволяет различать
Таким образом, хотя, на первый взгляд, спекулятивный реализм говорит не об истории, а о
Тогда как новоевропейская мысль с некоторого момента стала абсолютизировать суждения, неистинное стало означать ложное, обо всем нужно срочно вынести суждение, сказать, истинно оно или нет; и если не истинно, то ложно. Такой новоевропейский философский проект можно рассматривать как проект постоянного интеллектуального шантажа, по сути, что нужно обо всем сразу вынести суждение и сразу определить, истинно оно или нет. Отсюда построение системы как крепости против интеллектуального шантажа. В философии XX века идет поиск неких философских областей, где этот шантаж невозможен. Скажем, экзистенциалистский, феноменологический проект — это бегство от шантажа, то есть нахождение той области знания, где шантаж, где постоянная постановка вопроса о том, если ты говоришь не истину, ты точно говоришь ложь, невозможны.
Именно спекулятивный реализм, утверждая, что наше суждение формируется автономно и, таким образом, наше суждение не встроено в эпоху и в дух эпохи, тогда как докса, мнение — это сами взаимодействия вещей, возвращает ту старую перспективу всемирной истории, которая и была утрачена. Он возвращает нам перспективу, в которой докса — это вовсе не есть постоянное оправдание происходящего. Докса — это просто некоторый норматив отношения вещей. И когда спекулятивный реализм преодолевает человеческую исключительность и говорит о единых законах интеракций, то он возвращается вовсе не к
