Левацкий педантизм как генезис политического сектантства
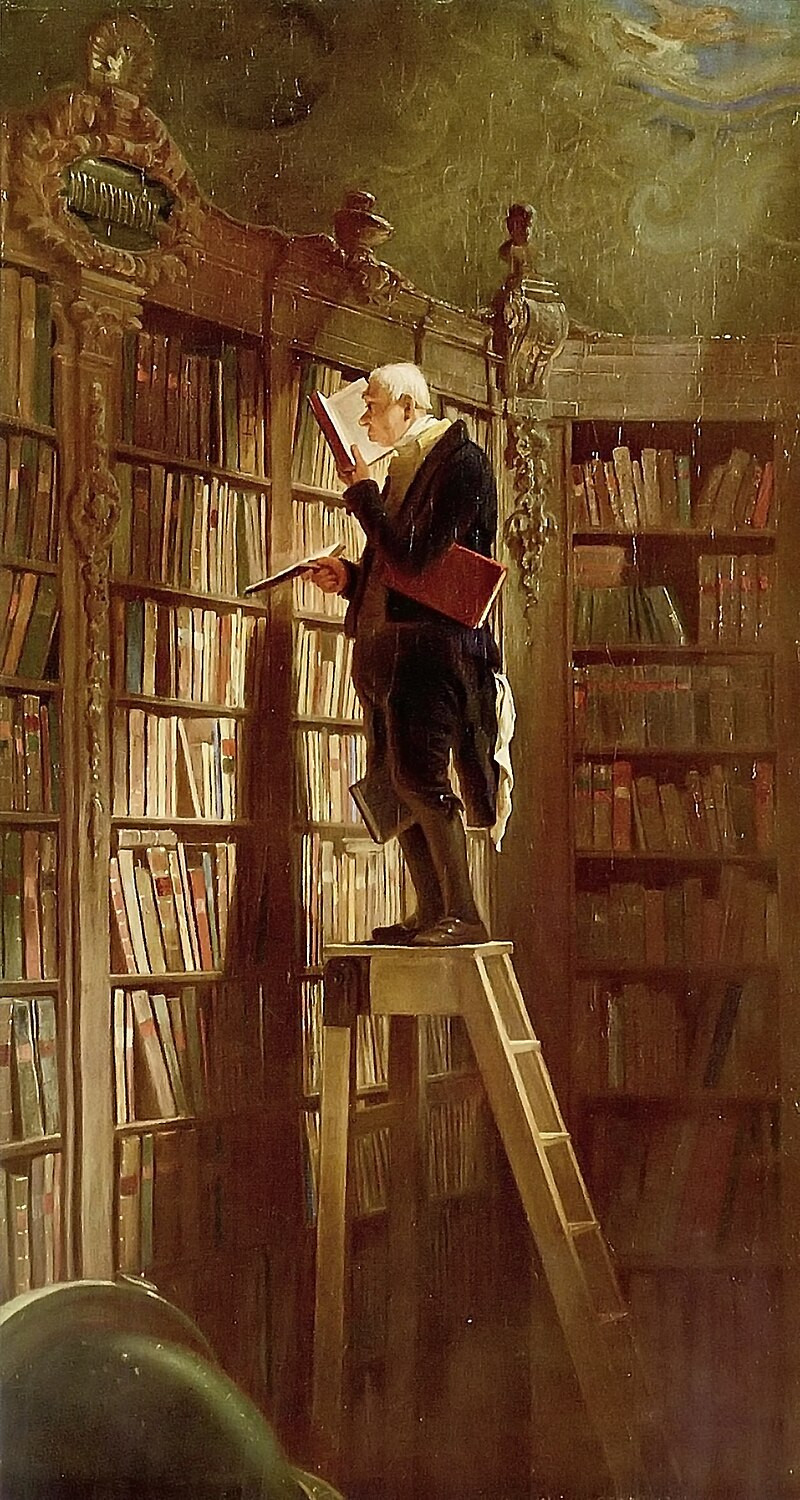
19 января 2023-го
Обсуждала тут на днях со своим близким товарищем, почему я не люблю давать точные определения важным теоретическим понятиям, в частности, «что есть революция», «что есть левый», «что есть язык» — и далее по списку — в духе некоего «словаризма». И дошла плавно до того, за что я в принципе не люблю левые организации в России, претендующими быть революционными, и почему их, как правило, стоит обходить стороной.
Тот факт, что эти организации, как правило, марксистские — это ещё половина беды. Марксизм марксизму рознь. Самая главная беда — в том, что члены этих так называемых публично-подпольных кружков пытаются дать самое истинное, самое точное и незыблемое определение марксизму, а заодно и другим политическим течениям, как то анархизму, либерализму, консерватизму — и далее по списку. Причём закономерно выходит так, что марксизм определяется как революционное течение, философия диалектического материализма как философия революционного пролетариата, а на все прочие течения и философии навешивается ярлык «буржуазности» просто на том основании, что словарь передового авангардного меньшинства не должен быть политически нейтральным. Ведь именно в этой характеристике проявляется педантизм политической секты: стремление к тотальному разделению на «своих» и «чужих», вплоть до того, что чужими объявляются даже политические соратники.
Вот что указано в БСЭ о
«Марксизм-ленинизм, научная система философских, экономических и
И вот что в ней же написано об анархизме:
«Анархизм (от греч. anarchía — безвластие), мелкобуржуазное общественно-политическое течение, враждебное пролетарскому научному социализму. Основная идея А. состоит в отрицании всякой государственной власти и проповеди ничем не ограниченной свободы каждой отдельно взятой личности».
Вот что написано о диалектическом материализме:
«Диалектический материализм, философия марксизма-ленинизма, научное мировоззрение, всеобщий метод познания мира, наука о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и сознания. Д. м. основывается на достижениях современной науки и передовой общественной практики, постоянно развивается и обогащается вместе с их прогрессом. Он составляет общетеоретическую основу учения марксизма-ленинизма. Философия марксизма является материалистической, так как исходит из признания материи единственной основой мира, рассматривая сознание как свойство высокоорганизованной, социальной формы движения материи, функцию мозга, отражение объективного мира; она называется диалектической, так как признаёт всеобщую взаимосвязь предметов и явлений мира, движение и развитие мира как результат действующих в нём самом внутренних противоречий. Д. м. — высшая форма современного материализма, представляющая собой итог всей предшествующей истории развития философской мысли».
И вот что — о «враждебной» метафизике:
«Метафизика, 1) философская «наука» о сверхчувствительных принципах бытия… 2) Противоположный диалектике философский метод, исходящий из количественного понимания развития, отрицающий саморазвитие…В качестве метода мышления, противоположного диалектике, М. впервые была истолкована в идеалистической форме Г. Гегелем. К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин показали научную несостоятельность метафизического метода мышления. Именно в марксизме понятие «М.» приобрело указанный смысл и в терминологическом отношении».
Марксистскоцентричные определения — это ключевая деталь любых определений марксистов. Словарь у марксистов — это идеологическое оружие. Очерчивая понятийный базис таким способом, они тем самым заведомо заставляют говорить науку на «своём» языке, не предполагая, что толкование «общепринятых» (ими же) понятий может быть иным у других политических течений, представителей других философских школ и идеологий. Постулируя в качестве непреложной истины своё видение мироздания, они консервируют любое проявление философской рефлексии — и убивают философию. Нет ничего более убийственного для философии, чем объявить, что её категории незыблемы, будучи застрявшими в
«Но эти избранные будут горячо убеждённые и к тому же ученые социалисты. Слова «учёный социалист», «научный социализм», которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лассальцев и марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых. Народ не учён, значит, он целиком будет освобождён от забот управления, целиком будет включён в управляемое стадо. Хорошо освобождение!»
Правление аристократии — вот что преследует метод марксистского «словаризма». Ненавидя позитивизм за его мелкобуржуазность, «подпольщики» сами с любовью и трепетом препарируют философию, относясь к ней не как к комплексной науке с её методологией, а как к совокупности понятий и определений, которые нужно лишь как можно точнее обозначить. Разрезав философию на составные части, они начинают определять её понятийный аппарат, и делают это с такой скрупулёзностью, что это становится целью их подпольных заседаний. Вечные споры о троцкизме и сталинизме заканчиваются в конечном счете тем, что дискутирующие не определились, что есть вообще марксизм — и тот факт, что эта проблема всплывает из раза в раз, явно говорит о невозможности замены методологии (системы и подхода) разрозненными субъективными определениями.
Для чего философии нужен понятийный аппарат? Разве можно мыслить философию как науку определений? Нет. Философия — это всегда понятийная связь. И эта понятийная связь достигается не другими понятиями, которые принимаются за аксиому (как то, например, что анархизм «мелкобуржуазен»), но фактологией. Нельзя от понятия «анархизм» перейти разом к понятию «мелкобуржуазности» просто на том основании, что «мелкобуржуазный» = «враждебный марксизму». Не всякое враждебное марксизму мелкобуржуазно (равно как и не всякое мелкобуржуазное враждебно марксизму — и это при желании можно подтвердить). Другой вопрос, что задачей философа служит прояснение и подтверждение философских гипотез при помощи в том числе исторического анализа (тот самый вспомогательный инструмент философа — «философия на практике»), но никак не попытка изобретать «идеологически верные» определения. Ни одно определение неспособно раскрыть всю полноту человеческой мысли. И именно это никак не могут понять «словаристы».
Впрочем, такого рода рассуждение подтолкнёт «словариста» к тому, что он объявит, будто мы против любых определений. Эта своеобразная софистическая крайность постулируется неспроста: так, можно сказать, что ни у чего нет определения, потому что определения ничего не определяют. Ответить на это возражение легче лёгкого: в самом деле, если бы философы так считали, они бы не использовали тот понятийный аппарат, у которого, как ожидается, нет смысла. В «Логико-философском трактате» Людвига Витгенштейна это сполна доказывается, но вполне неплохо резюмируется простым высказыванием:
«4. 112. Цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия не теория, а деятельность. Философская работа состоит по существу из разъяснений. Результат философии — не некоторое количество «философских предложений», но прояснение предложений. Философия должна прояснять и строго разграничивать мысли, которые без этого являются как бы темными и расплывчатыми».
Иначе говоря, смысл многих определений, которые должны быть определены, обычно интуитивно понятны любому, кто имел с ними когда-либо дело. Любая дефиниция — это условность, от которой философ отталкивается всякий раз, когда пытается разъяснять мысли. Степень этой условности расплывчата, однако она присутствует: вы никогда не увидите употребление слова «треугольник» в значении слова «квадрат». Иногда философ сам намеренно использует то или иное понятие в смысле необщепринятом — и проясняет это. В частности, то что писал Фаббри в «Анархической концепции революции» (Dittatura e Rivoluzione, 1921) — разве использовал он слово «террор» в выражении «либертарный террор» в том же смысле, в котором это слово используется в выражении «якобинский террор»? Стало быть, нет. Он использовал это выражение в рамках очерченного им в конкретном контексте понятийного аппарата. Философ имеет и должен иметь право на подобную вольность. Попытка обозначить каждое слово, убивая свойственный философии интуитивизм категорий приводит только к тому, что философия превращается в христианскую проповедь, где есть Слово Божье, а есть ересь и сатанизм.
Здесь и пролегает происхождение левого сектантства. Пытаясь загнать себя в рамки «научного подхода», левая организация падает в ловушку позитивизма, используя естественнонаучный подход к дисциплинам, построенным по совершенно иным принципам. Отсюда патологическое стремление левых дать всему точное определение, отклонение от которого приравнено к оппортунизму и ревизионизму. Неудивительно теперь, что такие «революционные» организации не революционны и никогда не были таковыми: сложно, бывает, забивать шурупы молотком в той же самой манере, что и гвозди.
