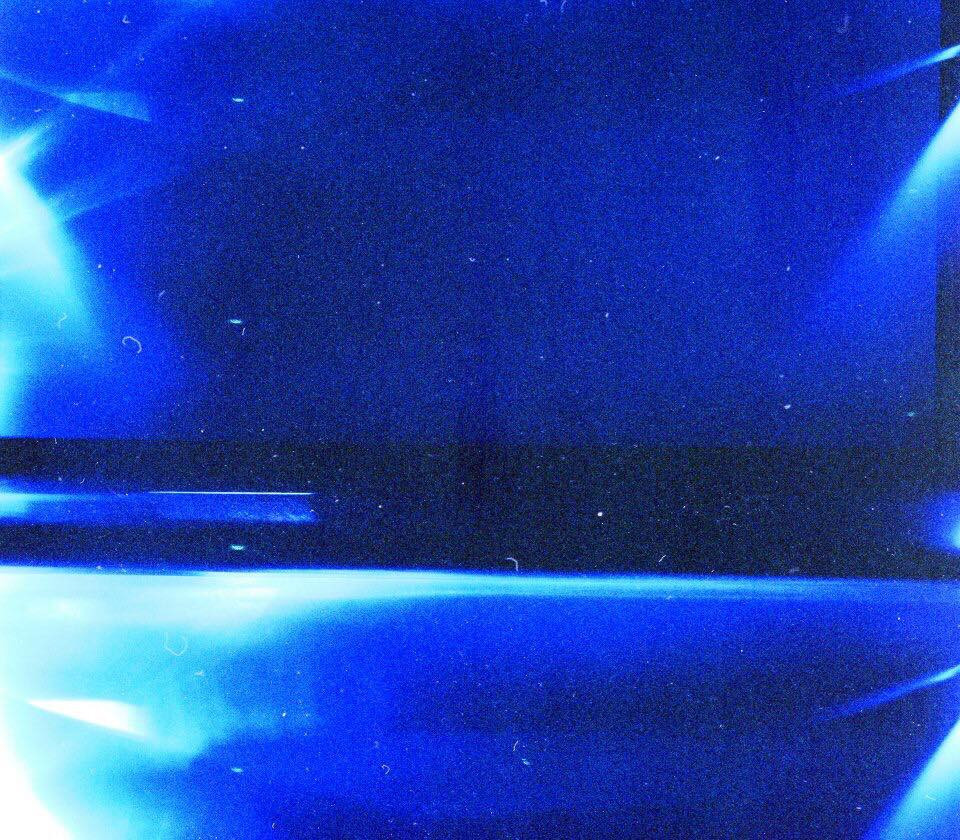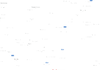Анастасия Карпета. Очень чуть-чуть
Анастасия Карпета родилась в Омске, где изучала английскую филологию, театральные практики, поэтическое письмо и музыку. Закончила отделение компаративистики в Карловом университете в Праге, а также ездила по обмену в Рим. Эти опыты определили способность АК пребывать в нескольких языковых системах одновременно, а также умение вчувствовать очень разные пространства. Ее письмо находится в постоянном диалоге с английским — языком рок-н-ролла, чешским — языком пражского литературного мира, итальянским и немецким. Музыка, которой АК никогда не прекращала заниматься — еще одно влияние, возможно, самое важное. Письмо становится текстами песен и вокализируется, а музыка определяет ритм письма и задает настроение безумной импровизации. В настоящий момент АК живёт в
Проза АК — волевое собирание гетерогенного, постоянно дробящегося множества. В ситуации одновременной невозможности и необходимости сделать шаг, нужно по крайней мере создать место для данного шага, даже если в качестве материала есть только неисчислимые, энтропически разбегающиеся пространства. Для того, чтобы такое соединение могло состояться, вещи и слова разворачиваются непривычными сторонами друг к другу, их трещины, впадины и крючковатости используются как пазы для стыковки, даже если (особенно если) так не было задумано. Несколько языков, очень много музыки, непохожие друг на друга пространства жизни (Омск? Прага? Рим? Санкт-Петербург?), абсурдная в своей принудительности повседневность — всё стянуто и сцеплено здесь и сейчас и тут же снова рассыпается, когда перестает удерживаться спазмом внимания. Труд движения делает присутствие почти таким же осязаемым, как и предметы, которыми оперирует это собирающее усилие. Упорное созидание, повторяющее шаг за шагом, что даже если ничего нет, мы всё ещё здесь.
Мария Бикбулатова
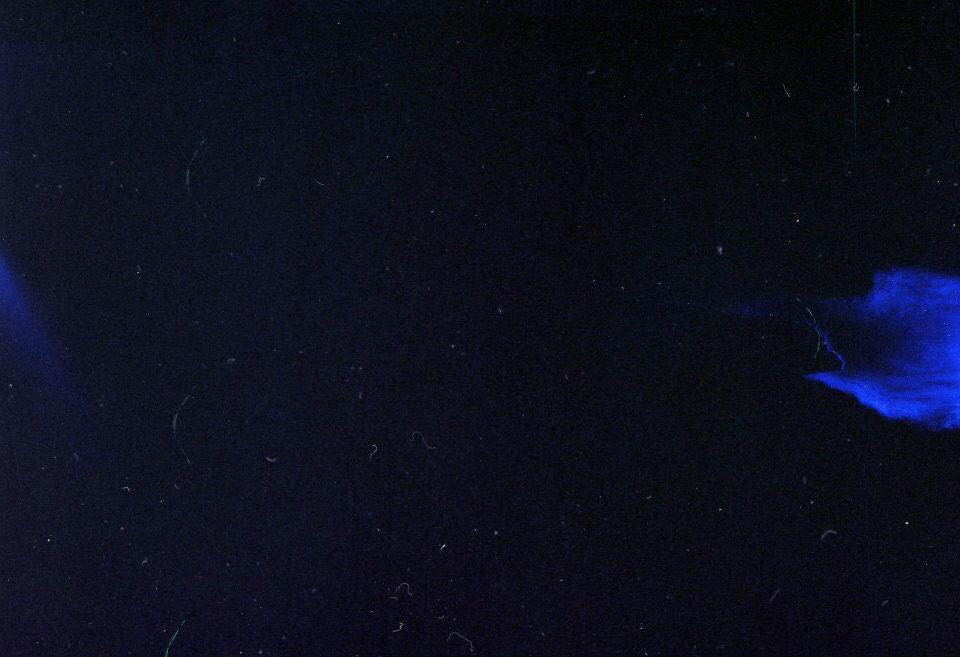
Очень чуть-чуть
Осколки хроники 17-18-19
II
В невесомости
Отрывки возможности музыки. Сначала воздух над кроватью становится шире, появляются микроскопические формы, нагретые в овалах, кружках, мягкие и обтекаемые. Белый потолок в трещинах чуть отдаляется, и на нем проступают мягкие завитки, напоминающие улиток или побеги розового куста на вершине холмов, или розетки на колоннах, мозаику в отдельных уголках/угольках, осыпающиеся леса, крошащиеся обломки снега, звенящие под руками льдом, реснички девушки в трамвае, взъерошенные волоски, вставшие дыбом на руках кудрявого парня, поры тихоходки, иссушено парящей в космосе без тихоходочного скафандра, разводы акварели на стекле звенящей витрины, пальцы, поедающие пастельные мелки, разбирающие их на рисунки мохнатых елей на краю обрыва, пустынные песчинки, перемешавшиеся с отрубями, звуки флейты, доносящиеся из вязанных ртов клянгеров, пепел закуренной на ветру сигареты, попавший в раскрытый глаз, в широко распахнутые реснички/и волоски/и розетки/и побеги/и обломки/и поры прохожих, удивленно взирающих на себя, оказавшихся на белом потолке в трещинах, морщины которого начинают распрямляться, превращаться в начерты и полуфонемы, плуг, за которым стоит мужчина в широких простых нераскрашенных одеждах, его лицо кажется знакомым, он толкает плуг вперед по пульсирующей дороге из камней, которые растекаются под ним, становясь ручейками, пожирающими камни, и травинки, и песок, мужчина ступает босиком, потом на его ногах появляются ботфорты, он толкает плуг прямо из угла потолка вперед по длинной стороне прямоугольника, плуг становится костром, вокруг которого собирается семейство, они в мягких шкурках, делят еду и кости, их всего пятеро, один ребенок, судя по всему, девочка, мужчина, двое женщин и старик, их контуры определенно очерчены, нераскрашены, они выдавлены в потолке, поэтому кажутся черно-белыми, но основной цвет тихий/легкий/серый, пульсирующий, разветвляющийся завитушками, улыбками, порами, напоминающими эскиз картины, раскадровку для мультика, они едят похлебку, улыбаются и о
III
Широкий импульс вещественного
Скомканный рукав платья на плече. Гладкая шкурка. Огромные красные точки на лице, нервное хихиканье при виде бритвы. Полукруглые чаши, висящие на люстре, приходят в неловкое движение, все скорее вращаясь и расплываясь в темное ничто, образующее мужской торс, вылепленный из мрамора по строжайшим законам эллинистического мастероподражания, с головой симментала, скорее маской, но все же головой, с вызывающими ужас рогами, один из которых указывает в прошлое, а другой в будущее. Настоящего больше нет. Голова поворачивается в разные стороны, склоняясь все ближе к кровати. Тени никогда не были тенями, это группа ульев, замышляющих что-то бесконечно отвратительное, ужасающее и ранящее навсегда, они жужжат, и один самый невзрачно-скомканный стоит на круглом столе, вокруг которого собрались четверо других. Он что-то вещает, прикрыв рот спиралевидной культей, шуйцей указывая на голову минотавра, его речь недоступна, это немое проникновение в разум, бесчеловечные/беспрекословные/безусловные/безвременные/безупречные исполнения запретов, их невозможно избежать/изжить/извергнуть/изувечить/изменить/извести/изукрасить. Запрещается дышать. Запрещается закрывать глаза зияющими руками. Линейное перемещение во времени неверно — это явка, свойственная обманувшим себя. Запрещается разговаривать. Запрещается моргать. Запрещается помнить прошлое. Запрещается знать свое имя. Запрещается сопротивляться. Запрещается есть. В нише — безумная кошка, напрягшая хвост и стреляющая расправленными во льде искрами из глазниц разного размера и воплощения. Запрещается слушать музыку. Кошка ползет все ближе, чем явно манипулируют ульи, разрывая свои грудные клетки и оставаясь невредимыми. Ниша под кошкой начинает мерцать, превращаясь в жгут, разрезанный на тысячу разрубленных стекол вперемешку с гнилыми кусками мяса, они образуют нескончаемую линию, начинающую движение по поверхности белой ниши, оставляя на ней грязно-багровый след, к поверхности белого пола, чем управляют ульи, стремясь сделать все белое иначе. Тревога, все иначе. Окончание бытия в теле. Запрещается кричать или переворачиваться на живот. Руки становятся антеннами/коликами/колкими проводами. Их невозможно отрезать, они танцуют Dance Macabre, пляску смерти, выгибаясь судорожными покалываниями, разрываясь на атомы, которые собираются в другое/нелогичное/несуществующее в настоящем тело, инородные движения совершают отстукивания в воздух, который стал плотнее стены из титана, и пальцы стали пластиком, убивающим все живое/настоящее/искреннее/доброе, уничтожающим все это навсегда таким свойством, что этого всего никогда и не было в истории, больно-пластиковые пальцы, режущие, скребущие металлические полотна, затмевающие все остальные голоса вокруг, начинается обратный отчет…
… (проектор, часы судного дня, башня, светские животные, понимающе скалящие головы, фигуры из бархатных штор, свертки на полу, ползучие/розовые щупальца по дверному косяку, истории домиков и трещин, бегущие параллелепипеды и спирали, воронка с мерцанием, спасение в мигающей луне на кирпичной стене, вяжущая стрекоза, молящиеся фигуры из штор, расчесывающие волосы, читающие, становящиеся масками зверей, часы судного дня, башня, поворачивающаяся кирпичной стеной обратно от циферблата, возвышающаяся над пустыми руинами).
В тот момент, когда видишь дьявола, спускающегося к тебе, повелевающего ульями, осознаешь непреложность его императивного существования — он экзальтирует в тебе обратным реверсивным экзорцизмом, изгоняя из тебя всякую сущность, растаптывая твои пластиковые пальцы на пули для кровоточащих пушек, и ты слышишь вопли вселенной, одинокой и сдавшейся, сжавшейся в замкнутую запонку на твоем черном пальто из металла и тьмы.
IV
Потом шторы. Тяжелые/багровые/короткие как половина квадрата с еле слышным растительным рисунком, их трубчатые складки и изгибы, междометия и паузы плавно двигаются, приобретая изменения в своей форме, складываясь в тех, кто их произвел на свет прямо во тьму. Один из незаметных ранее комков на самом верху у гардины распрямляется, образуя голову, видимо, женскую — в длинном позорном колпаке, из которого свисают неподъемные кисти, заляпанные краской, голова приобретает колеблющееся тело, которое двигается в такт звукам, доносящихся из открытых окон в доме напротив, из туловища змеевидной формы высовываются руки, укрытые длинными рукавами, они начинают лепить новую голову, непокрытую, мужскую — из ребра своего тела, и гладят ее нежно и настойчиво, до той поры, пока она не расплавляется совсем, влившись в прямой кусок шторы.
V
Форма происходящего не видна. Близость забвения непоколебима. Ощущение мира в ладонях неверно, только кажущаяся риторика наивности может оправдать случайность. Лица в метро, скрывающие свет. Универсальная паранойя сознания, истерзанного ложью, измученного фрагментированием снов, исковерканного уловками ловушек. Смех издалека. Надменный или нелепый, но вполне осязаемый, такой же тяжелый, как ракушка в ухе, в оконной раме/ране раскрывшейся ночи. Чем же прекрасны состояния, свободные от ярлыков? Абсолютно всем и ничем одновременно. Скучающие деревья, куски холодных огней, падающие с разрушенных крыш на Твое лицо, становятся привычными и сухими, как корочка на апельсине, забытого на столе/слоте. НЕспешность, с которой совершается будущее на практике, на практике пугает своей разогнавшейся стаей гончих, устремившихся за кроликом. Говорящие домики не располагают ко сну, жучки на столе становятся скомканными, истории, качающие ногами на поверхности кафеля — они все ближе. Вероятность всех уцелевших больше не работает. Свергнутость всех потерпевших и анонимность богов достигла своей точки отчаяния. Слишком много имен, забывается сущность, когда слишком много имен, руки начинают дрожать и углубляться в волосы для/до ощущения возможности отсутствия знаков и до/для нахождения места без символов. Упорные пяльцы ищут аккорд, больше нет места для ошибок. Сны — это место боли. О решетку стальных ворот бьются головы Твоих хрустальных врагов, безболезненно нагромождающихся в синхронизированном пространстве. У всех есть советы на каждый случай из Твоей жизни. Только их не спросили. Когда площадь начинает уплывать, остается только закрыть глаза, досчитать прожитые дни и продолжить путь.
VII
снежная ограда и ограничение нежности
идеально организованный мир современного выставочного пространства разрывался на какофонию звуков, доносящихся из разных залов. В кафе играл джаз, призванный располагать к потягиванию кофе за неспешным рассматриванием стен со злыми контурами животных среди цветных пятен, слева доносились утробные звуки и технологические обрывки/урывки/ужимки кашляющих и рыгающих картин на
над i, а сделать так, чтобы точки больше не были обходимы.
Твоя рука в кармане зеленой куртки, моя — на оранжевой каске, кто-то бежит через снег к снегу во снегу́. Так же, как и чешуйки на вопросах памяти, мысли наконец-то потеряли вязкость и уступчивость, плечами пожимают не от отсутствия спирали или свирели/свирепели сиренью они не думали нет никогда, заходят в синий дом, запирают ворота в сером комплексе, развиваются под музыку в серебряном заводе. Снег лежит на псевдоримских/псевдоритмических/миниатюрных/мелодических колоннах, показывая и доказывая приоритетность себя. Нерастоптанные и неразделенные чувства, несохраненные тексты и неудивительные беседы стали не так уж и важны/вешаны/выращены/ворошены взяты на курок зябкими пальцами конкистадора. Любая попытка оправдания не находила своего суверенного света в сиреневом сумраке сращенного свéрбя.
Добровольное изгнание и отделение из уставших от себя же и предоставление способностей не стало убегающим вновь, как свет или как текст, который выглядит, как плохой перевод, или черновик с неизвестного языка, или языка в процессе изменения и придумывания, собирания заново, сочинения заново, без обязательной нежности оммажа/сажи/ноши/омара не было и нет.
VIII
смотри на сломленную собой реальность, помешивая то, что мешает несравненным чувством собственного достоинства, просто так достать слова из головы, слюни и увлекательный ананас около зеркала, то, что напоминает кадры из фильма — не фильм, это просто вычитывание. and in his hands all she was carrying was the bowl of sand. no hUman land, all we were carrying was the bowl of sand, the stone to the stone, стон near the tombstone.
IX
пространство в прозрачном песке пропадает на пике. приветливо пристают впалые рты: Посмотри На Них. Прикоснись к Ним! Сделай вывод из происходящего! Но зачем?
Знаешь тех, кто говорит по-заученному, путая необходимость и бессмысленность? Знаешь тех, кто верит в белые стены, освобождающие разум? Свободный, как ветреный зимний день, разум. В белых, как пустой мир, стенах. Великодушие считается глупостью, счастье — ошибкой. Мечта, сонь, прихоть, когда до воплощения в реальность не хватает расстояния одного игольного ушка/стежка/ростка, рассекая/порхая она идет/шумно, и вся фактурность прожилок в телах группируется для этого завершающего или вступительного аккорда.
Человек погружает луну в озеро, чтобы выловить две. Мороз перемещается в перевертышах облаков, цепляясь за трубы полуразрушенных зданий. Сироты/Сугробы составляют сущность стихии. Голос, поющий издалека, поет о
Свирели упираются в стершиеся следы на свирепых словах, светящиеся и съежившиеся совместно и совместимо от свободного падения. Нескомканные и несломленные.
XI
Примеры/периметры рабочих моментов, люди со спокойной жизнью, размеренное спокойствие по каплям. Как же просто было бы остановиться и перестать витать в облаках, это мысли сумасшедшего и ирреальности, которая воспроизводится в воспаленном сознании отчаявшегося существа без надежды. Это все не про то и не про это. Когда она попросила еще немного времени, вместо весны снова наступила зима. И сквозь эту непроницаемую стену из снега и льда было не так больно смотреть.
Все неровнее/и нервнее/и неуравномереннее, все нежнее. Каждый день превращался в это все нарастающее и наступающее ненастье непредсказуемого и одновременно сказуемого в светлости моментов молокоотсоса.
VI
Город
гОрОд, которого нет на карте
The city, which lies within its citizens straight in the line.
Линии, 26 штук. Зубы у крокодила.
Шарики скомканных иллюзий рассыпались хлебными крошками-кошками-крошками на Твоем столе для завтрака. Всего-ничего. Сухая горячка неизбитости избыточности. Гладишь ее по головке, приговаривая. Вот салатик, мы рубим его топором, потому что салатик — твердый, а топор — прямой, ножик слишком мягкий и просто распрямляет его как мясо/масло/жизнь неясна на трекере. Там, где плачут дети, больше не загораются звезды. В своем фиолетовом пальто из пенопласта Ты меряешь улицу руками, приехав в город впервые. Гуляешь один по галереям, не покупаешь еду, норовишь выкрикнуть «у» при каждом удобном случае. СверхОвнимание больше не уделяется. Не сразу, но летят картины и рисунки вниз из окна, не сразу, но их находят по обломкам, разрывам и отголоскам, по несовпадающим/невосстановимым частям в кузовах мусоровозов, на городских свалках паноптикумов, изолирующих от всех неприятное или просто ненужное глазам, непривычно невнятное, неверно нестадное.
Alles ist lost. If you’re on my side, there’s no yes or no.
Громоздкие ситуации, непостижимым образом пересекающие друг друга, повторяющиеся катящимся под откос клубком, переписывая непереписываемое, переваривая неперевариваемое, изменяя неизменяемое, но уже измененное, соединяя скрижали в куб, крепкий и косматый/измельченный/искривленный привкус крепости за стеклом окна, где горит свет, увлекая за собой.