Маркс против марксизма, марксизм против Маркса
Беседа с Валерием Подорогой о феномене советского марксизма — его месте в истории советской мысли, наследии и актуальности. Впервые опубликована в 2017 году в тематическом номере журнала Stasis: «Античность и современность советского марксизма».

Алексей Пензин (Институт философии РАН; University of Wolverhampton, Великобритания), Валерий Подорога (Институт философии РАН; РГГУ), Кети Чухров (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
1. Советский марксизм или советские марксизмы?
К. Ч.: Меня интересует тема философского статуса советского марксизма в контексте западного марксизма. Есть фигуры, которые сложно представить себе интегрированными в современную критическую мысль или тем более в эстетическую теорию. Тем не менее эстетика Георга Лукача, хотя и со скрипом, является частью корпуса эстетики и эпистемологии модерности, а вот работы Эвальда Ильенкова или тем более Михаила Лифшица — нет. За этими именами есть шлейф некоей маргинальности. Кроме того, само чтение Маркса порождает в контексте советском и в западном весьма разные результаты. Например, Ильенков из Маркса дистиллирует те категории и понятия, которые западной мыслью того времени не употребляются: идеальное, всеобщее, труд как культура и пр. Альтюссеровский критический марксизм подобные категории относит к раннему, гуманистическому Марксу. Получается, что из одного источника рождаются разные модели общественных целей.
В. П.: Вы правы в том, что западный марксизм и его основные идеи формировались вне влияния наиболее значительных представителей «советского марксизма». Хотя отдельные работы Ильенкова, Выготского переводились в издательстве «Прогресс» и пользовались некоторой известностью, например среди американских и британских марксистов. И, конечно, отрезанность на долгие годы от культурных и политических процессов на Западе сделала нашу самую выдающуюся мысль замкнутой на себя, на свое одиночество, в постоянном неврозе ожидания новых партийных чисток и репрессий. Западный марксизм («левый») имеет свою богатую историю, которая если и была как-то связана с восточным догматическим марксизмом-ленинизмом, то только в сфере сотрудничества различных коммунистических партий. От этого жуткого и кривого зеркала «реального социализма» наши лучшие умы 60-х годов не могли оторвать глаз. Надеялись: вдруг повезет и мы окажемся в зазеркалье…
А. П.: Мои вопросы исходят из вашей недавней лекции, посвященной Лифшицу. Если я не ошибаюсь, вы выделили четыре типа советского марксизма: гегельянский марксизм (прежде всего, Эвальд Ильенков), номенклатурно-догматический (как часть советского «идеологического аппарата»), научный марксизм и «левацкий» марксизм (Подорога 2016). Последний тип мне не совсем понятен: кого к нему следует относить?
В. П.: Рискну занять ваше время для обстоятельного ответа. Начну по порядку «марксизмов». В тогдашнем СССР самой распространенной формой «марксизма» был «марксизм-ленинизм», или партийно-номенклатурная, догматическая форма идеологии, служившая прикрытием или декорацией для однопартийной системы КПСС. К этому нужно отнести и образовательную практику высшей школы, которая полностью определялась диаматом, истматом, научным коммунизмом и историей КПСС, чисто партийно-идеологическими дисциплинами. Кстати, они были обязательными для высшей школы.

1. Левый марксизм теоретически не представляет собой ничего интересного и нового. И, конечно, он не имел никакого отношения к прокоммунистическим позициям в теории, которую занимали Карл Корш и Георг Лукач. Сформировавшись в рамках партийно-номенклатурной системы, он являлся ее идеологически-репрезентативной надстройкой. Если хотите, каждый номенклатурный «левый» хотел казаться более папой, чем сам папа. От Сергея Земляного, одно время входившего в группу спичрайтеров генеральных секретарей ЦК КПСС Юрия Андропова, а затем Константина Черненко, мне было известно, как идейно-идеологически и политически существовали тогда верхи. К группе «левых» причисляли себя относительно молодые люди, энергичные и крайне честолюбивые, с нацеленностью на большую партийную карьеру. В основном это были выходцы из комсомола (первые секретари разного рода комсомольских организаций). Эта группировка была достаточно влиятельной и противостояла другой такой же, но с другим знаком и близкой к широкой гуманитарной оппозиции режиму (все те, кто с «фигой в кармане») — либерально-номенклатурной фрондой, достаточно циничной, хорошо образованной, склоняющейся к управляемым реформам партийного руководства страной.
2. Марксизм диалектический, гегельянский — это прежде всего Эвальд Васильевич Ильенков, а также близкие к нему более молодые коллеги, среди них нужно назвать Генриха Батищева и Виктора Вазюлина. Диалектический метод рассматривался ими как непременное условие становления новой марксистской науки, которая должна быть построена на основании единственной модели — «Капитале» Маркса. И не просто представлять идеальный образец организации знания, а стать универсальной наукой — наукой наук.
3. Наиболее сильное обновляющее влияние на марксистскую доктрину оказала возникшее после Второй мировой войны течение экзистенциализма (Сартр, Хайдеггер, Ясперс, Энцо Пачи, Ортега-и-Гассет и многие другие). Сюда же можно отнести и исследования ранних произведений Маркса, открытие гуманистического образа Маркса и переход в политике отдельных стран Восточного блока к доктрине «социализма с человеческим лицом». Пражская весна 1968 года была идейно подготовлена как революция экзистенциальная, ориентированная на гуманистическое обновление, «очеловечивающее» социализм старых марксистско-ленинских догм. Правда, к концу 60-х на Западе начинает усиливаться критика экзистенциально-гуманистической интерпретации марксизма (вероятно, это было следствием поражения процесса реформирования политического режима в Чехословакии). Теперь прежняя формула, задающая оптимистический исследовательский горизонт, марксизм — это гуманизм, начинает рассматриваться как ложная и утопическая.
4. Далее идет марксизм научно-структурный, с которым я больше всего имел дело. К нему можно отнести замечательных ораторов, настоящих лидеров неподцензурной критической мысли, ученых и философов: это Александр Зиновьев (Зиновьев 2002), Георгий Щедровицкий (Щедровицкий 2004; см. также Хромченко 2004), Борис Грушин (Грушин 1961), Мераб Мамардашвили (Мамардашвили 1968). Параллельно близкая к ним группа исследователей во Франции, возглавляемая Луи Альтюссером (Этьен Балибар, Жак Рансьер и др.), провозглашает обновляющую догматический марксизм тему «научный Маркс». Исследования московской и парижской групп в
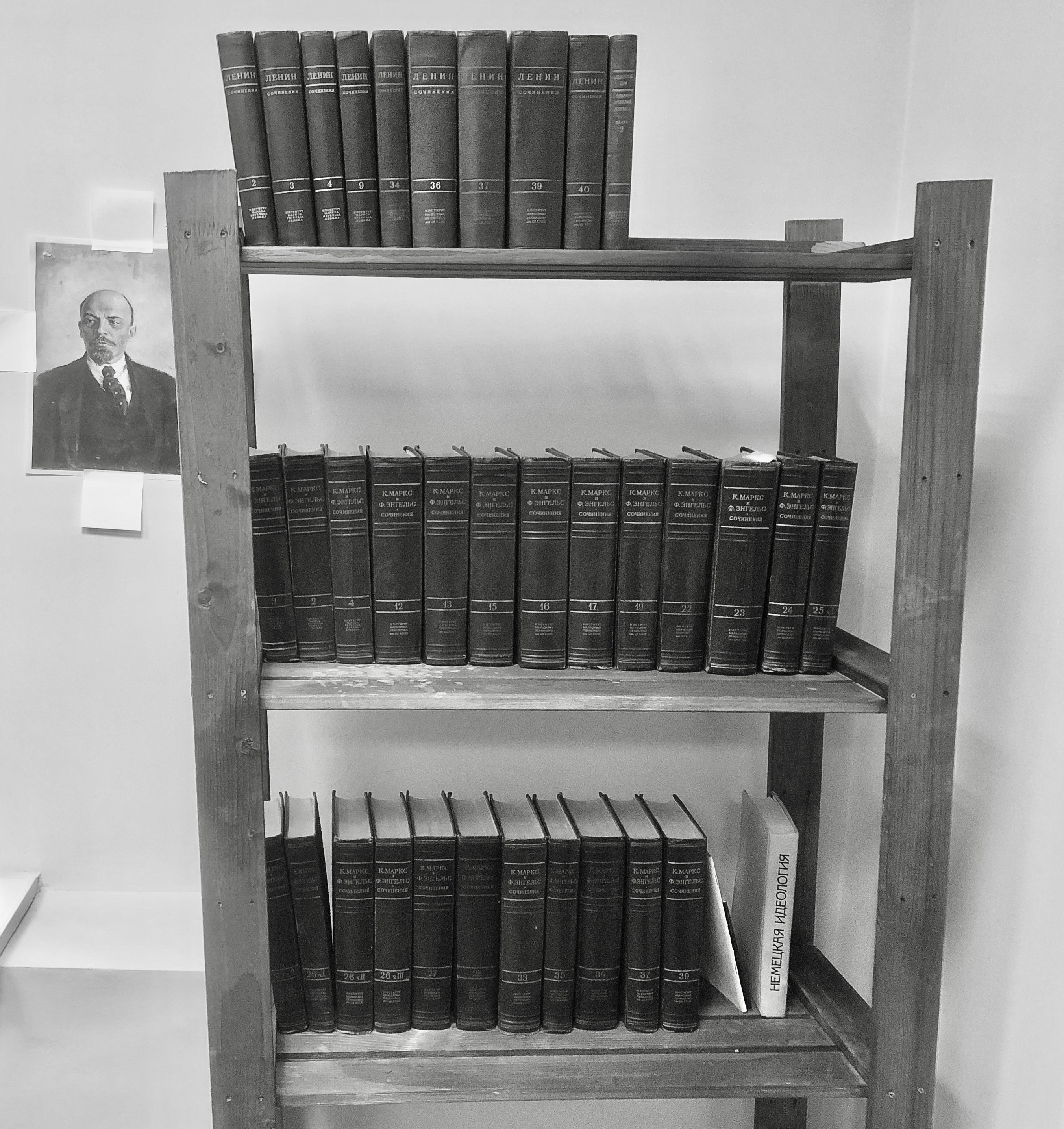
А. П.: Вы также высказали довольно провокативный тезис, что «советского марксизма» как такового в единственном числе и не было. Ведь, согласно Вашей гипотезе, он состоял — по крайней мере, в позднесоветское время — из нескольких разных формаций, из которых, видимо, невозможно выделить «главную», основополагающую. Такой анализ, подчеркивающий множественность дискурсов и богатство его индивидуальных вариаций, безусловно, критически важен, поскольку он подрывает образ некоей догматической монолитности, который упорно навязывается этим формам марксистской мысли. Хотя было бы интересно и поразмышлять о том, в чем же
В. П.: Что значит, Лифшиц не предлагает никакой позитивной модели? Она уже есть — это модель ортодоксального марксизма. Ранее я относился к Лифшицу, можно сказать, никак, поскольку мое поколение не считало ни этот язык, ни эти идеи, ни весь этот старый «марксизм-ленинизм» чем-то важным и необходимым для понимания современного мира. Хотя Маркса мы изучали, но скорее по-постмарксистски, чем по-ленински. Ленинские работы мы сдавали на экзаменах по истории КПСС, а вот Марксом действительно занимались, но не как социальным революционером и автором «Немецкой идеологии», а как европейским мыслителем, предложившим (с опорой на Гегеля) важные идеи в области понимания природы сознания и форм его функционирования. Постоянно сравнивая наш опыт чтения Маркса с европейскими исследованиями и крупнейшими «постмарксистами» (Альтюссер, Адорно, Лукач), мы ощущали себя причастными к тому, что происходит в мире. Не последнюю роль в этом сыграли работы Александра Зиновьева, Владимира Библера, Мераба Мамардашвили, Эвальда Ильенкова, Бориса Грушина и др. Общий девиз: назад к Марксу — к Марксу подлинному, научному, Марксу-мыслителю! Долой марксистско-ленинскую идеологию, это ложное сознание, которое начиная с 60-х годов оказалось совершенно опустошенным, пустым, из него ушла вера в мировую революцию, вера в возможность построения идеального общества свободных людей, общества социальной справедливости!
Особенность положения Лифшица среди «советских марксизмов» в том, что он относил себя к так называемому «левокоммунистическому марксизму» 30-х годов (досталинского периода). Вот его кредо: критика всякого рода «идей», «идеализмов» и «пережитков» буржуазного общества должна быть чрезмерной и беспощадной, ленинской или не быть вовсе. А это значит, она должна опираться на идеи и ценности идеального общественного устройства, недостижимого реально ни в каком обозримом будущем. Такое общество предстает в виде кантовской вещи-в-себе — как регулятивная идея. Поздний «постмарксизм» действовал в этом же направлении. Из тех, кто знал это и «хорошо чувствовал» критическое направление марксизма, назову Эрнста Блоха с философией надежды, Вальтера Беньямина с диалектическим образом, Теодора Адорно с негативной диалектикой, Герберта Маркузе с новой чувственностью — круг философов и теоретиков, близких к Франкфуртскому институту социальных исследований. И, конечно, Сартра с экзистенциализмом/гуманизмом. Лозунги студенческой революции 1968 года в Париже — чисто сартрианские: «Требуйте невозможного!», «Воображение к власти!» и т. п.
Особенность положения Лифшица среди «советских марксизмов» в том, что он относил себя к так называемому «левокоммунистическому марксизму» 30-х годов (досталинского периода). Вот его кредо: критика всякого рода «идей», «идеализмов» и «пережитков» буржуазного общества должна быть чрезмерной и беспощадной, ленинской или не быть вовсе.
Лифшиц обретает модную «левизну», провозглашая себя марксистом-ортодоксом, подчеркивает свои старые тесные связи с Лукачем и другими левыми коммунистами 30-х годов. Ортодоксальный марксизм — это тот минимум принципиальных положений марксизма, от которых нельзя отказаться, «улучшить» их или изменить: они установлены раз и навсегда. Приведу важную цитату:
«Всякий серьезный “ортодоксальный» марксист мог безоговорочно признать эти новые результаты, отвергнув все тезисы Маркса по отдельности, ни на минуту не отказываясь от своей марксистской ортодоксии. Ортодоксальный марксизм, стало быть, означает не некритическое признание марксовых исследований, не «веру» в тот или иной тезис, не истолкование «священной книги». Ортодоксия в вопросах марксизма, напротив, относится исключительно к методу. Это — научное убеждение, что диалектическим материализмом был найден правильный метод исследования, что этот метод можно разрабатывать, продолжать и углублять лишь в духе его основоположников. Что все попытки преодолеть или «улучшить” его вели и должны были приводить лишь к его опошлению, к тривиальности, к эклектике» (Лукач 2003: 104–105).
Жертвы критических дознаний Лифшица и не предполагали какую-либо с ним борьбу, это он совершает выбор, это он их выбирает, а не они. Не думаю, что его жертвы ожидали нападения. И это понятно, поскольку он действует во имя истины и «чистоты рядов» и от имени знания подлинной научности, от самой Истины. Однако замечу, что критическое отношение к любому материалу — это вполне естественно для любого литературного критика. Но Лифшиц не просто критик, а критик, опирающийся на принципы ортодоксального марксизма, и его главная цель — полное разоблачение идеологического противника.

А. П.: Спасибо за развернутый ответ. Я бы хотел уточнить, что в стандартных историко-философских классификациях «постмарксистами» называют более позднее поколение (как раз учеников Лукача и Альтюссера: Агнес Хеллер, Жака Рансьера, Алена Бадью, Этьена Балибара и др.). Впрочем, понятна значительная условность этих классификаций, а ваше замечание о том, что определенный круг критических советских интеллектуалов читал Маркса «по-постмарксистски» — еще до возникновение подобного чтения в «западном» контексте — кажется очень важным. Я думаю, что это была бы интересная гипотеза: Лифшиц, с его марксистской ортодоксией, со всей чрезмерностью и беспощадностью своих требований, сам об этом не подозревая, из сегодняшней перспективы парадоксальным образом выглядит «постмарксистом». То есть Лифшиц, если позволить себе такую шутку, так сказать, «требовал невозможного» от Брежнева! Еще вы сказали, что раньше относились к Лифшицу по-другому. В чем сейчас изменилась ваша позиция?
В. П.: Раньше, как я уже говорил, Лифшиц был мне неинтересен как философ. Но вот я получаю целую серию его посмертных публикаций, начинаю читать… Интерес, конечно, появляется, и основательный, но он
2. «Двоемыслие» и позднесоветская философия
А. П.: Какие события или процессы, с вашей точки зрения, являются наиболее важными внешними условиями развития марксистской философии в позднесоветском обществе?
В. П.: С
Поскольку власти понадобилась достаточно большая масса специалистов-консультантов по вопросам сотрудничества с Западом, то ей пришлось закрыть глаза на некоторые идейно-идеологические неувязки. Главное, чтобы слово протеста и критики не получило отражения и антисоветского резонанса в публичной сфере, а так — изучай все, что тебя интересует, но соблюдай приличия, не высовывайся и не провоцируй власть. Все формальные правила можно было обойти, но
Пошел невероятный поток информации с Запада. У нас в институте был открыт отдел периодики — сейчас это немыслимо, да и не нужно: туда из многих европейских стран приходили все самые значимые журналы по философии и общественным наукам, словари и справочники. Для сообщества гуманитариев (студентов, аспирантов, молодых преподавателей) знание стало наркотиком, мы были потрясены его доступностью и разнообразием. Трудно представить себе, какие герои знания были у нас на курсе. Предельно скромная жизнь, с утра до вечера в библиотеке. Год за годом. Наиболее популярные и богатые библиотечные фонды были в Ленинской, Исторической, в Библиотеке иностранной литературы и, конечно, в Горьковской при МГУ, что на Моховой рядом с факультетом журналистики. И диссидентство, и прочее свободомыслие во многом определялись возросшей информированностью общества. Свобода совпала с твоим желанием знать все больше. Как участник этого праздника знания, невероятного культа умной и нужной книги, я считаю, что все, что есть у моего поколения значимого и ценного, появилось именно благодаря этому информационному взрыву.
Для сообщества гуманитариев знание стало наркотиком, мы были потрясены его доступностью и разнообразием. Предельно скромная жизнь, с утра до вечера в библиотеке. Год за годом.
Еще один пример институализованного (государственного) двоемыслия, в котором я также поучаствовал как будущий кандидат философских наук. В 70-е годы Главлитом был разрешен особый жанр научного труда — ДСП («Для специального пользования»). По публикациям в таких сборниках научных трудов можно было защищаться (предоставляя диссертацию в ВАК). Я опубликовал одну часть своей работы о «негативной диалектике» Адорно в «Вопросах философии» (с благодарностью вспоминаю редактора отдела Армена Арзаканьяна), а другую часть — в сборнике материалов ДСП. И очень плохие, и хорошие ученые пользовались этими возможностями во всю. Материалы ДСП печатались ограниченным тиражом, практически без
К. Ч.: Скажите, а этот взрыв имеет отношение к экономике времени социализма? Очень многие отмечают экономику освобожденного времени при социализме, где есть ощущение «общества общей собственности», где не нужно приватизировать разные секторы времени, где нет частной собственности (об этом, например, много писал Вадим Межуев). Сейчас ведь тоже есть доступ к информации, но наше отношение ко времени и к знанию совершенно изменилось.
В. П.: Бесспорно, на такие углубленные занятия философией нужно было время — и много свободного времени. Но это не было время свободного социалистического общества, наконец-то достигшего своей зрелости. Напротив, это было время нехватки свобод и простой человеческой инициативы, время их подавления. В тюрьме, а особенно в одиночной камере мы обладаем наибольшим свободным временем (если, конечно, мы не замечаем, что находимся в тюрьме и что лишены многих свобод, которыми наделены люди от рождения). Иронически: если есть достижение «реального» социализма, так это время его распада! Ничто тебя не связывает с большим историческим временем, ты вне его, как и все общество, зато у тебя есть много малого времени, определяющего твое становление как ученого и человека. Этим я и мои друзья юности сполна воспользовались.
Однако сегодня у других поколений, застигнутых перестройкой, такого времени — «свободного времени распада» — не было. Нужно было просто выживать, двигаться, не читать книжек, не сидеть в библиотеках и не обсуждать отвлеченные и нелепые темы, не собирать домашние библиотеки… Конечно, кому-то со свободным временем повезло больше, кому-то меньше, но его больше уже не было. Но главное, мы жили только внутренним ощущением свободы, а все, что было со стороны Внешнего (среда, партийная цензура, навязчивая и пустая идеология, безденежье, обвальный дефицит позднего социализма), отвергалось с порога, оно было неинтересно…
К. Ч.: В советском кино изображаются слесари, анализирующие производственный процесс, высчитывающие алгоритмы экономического роста предприятия. Важная тема кино — показать рабочего, который может просчитать весь цикл производства и предоставить этот анализ партийному руководству. Рабочий класс — это как бы главный аналитик…
В. П.: Как-то, будучи еще на первом курсе, я участвовал в большом социологическом исследовании, которое проводилось на Московском заводе им. Лихачева, ездил туда каждый день, собирал результаты, тестовые интервью, взятые у выборочной группы рабочих. Особенно меня поразил один слесарь-инструментальщик, работавший почему-то на конвейере. Его задача — закрепление колес на оси будущего грузовика. Он так и не смог ответить ни на один вопрос интервью, просто не понимал, что от него хотят. Например, я спросил его, какой у него пол, — он задумался, но так и не смог ответить. Он не знал слова «пол» и слова «мужской». Сегодня это могло бы быть простительно и гендерно понятно, но тогда? Так что до главного аналитика простому рабочему было далеко. Но вот в 80-е годы действительно появилось множество предперестроечных фильмов, в которых изображаются эти рабочие/инженеры, новые руководители производств, так называемые красные директора, однако в 90-е годы все эти иллюзии большой «справедливой» и «успешной» реформы были разбиты в пух и прах. Конечно, была так называемая высшая пролетарская прослойка, приближенные к власти передовики производств (шахтеры, доярки, слесари и токари, комбайнеры и ткачихи). Именно они получали ордена, высокие звания, повышенные зарплаты и квартиры. Повторяю: чтобы сохранить социалистическую утопию, нужно было настаивать на абсолютной (не относительной) бедности всего общества. А бедность — это форма равенства. Так ослабляется энергия ницшевского ressentiment’а…
А. П.: Хотелось бы также понять, накладывались ли описанные вами процессы позднесоветского «информационного взрыва» и
В. П.: Попробую ответить подробнее. Но, к сожалению, это тема, явно выходящая за границы нашей беседы. Отношение к Марксу и Гегелю были определяющими для профессионального формирования всего поколения философов 50–60 годов. Статья «Анализ сознания в работах Маркса» была для Мераба Мамардашвили значимой для последующего становления тематики и всей предметной области, которые он использовал при формулировке теории сознания (Мамардашвили 2011). Несколько замечаний по поводу того, как этот материал представлен. Основной прием тогдашнего квази-марксистского языка как раз и заключался в том, чтобы найти в наследии Маркса то, что в современной философской традиции Запада стало общим местом, но было бы абсолютно неприемлемо для ортодоксальной идеологической среды марксизма-ленинизма. Имя Маркса использовалось как инструмент речи, несущей с собой двойной смысл — все то же двоемыслие, — от его имени посылали сигнал двум адресатам: один отправлялся к узкому кругу интеллектуалов, соратников и коллег (к так называемой прогрессивной обществен-ности), а другой — к властям предержащим, к тем, кто непосредственно курировал журнал «Вопросы философии» и играл роль цензора. Эта статья особенно показательна, ибо в ней наиболее ясно прочерчивается игра двухадресной речи — совмещается «хорошо продуманный» Маркс (из его наследия выбираются к тому времени публикуемые тома «рабочих», подготовительных рукописей к «Капиталу») с психоанализом Фрейда, но совмещаются на уровне методологических установок (хотя есть мерцающие цепочки ассоциаций, полускрытых взаимосвязей категорий и понятий экзистенциально-феноменологического и структурного плана, ведущих к Гуссерлю, Сартру, Лакану и др.). Западная (буржуазная) мысль еще только учится осваивать то, что в марксизме активно разрабатывается более полувека. Мамардашвили «открывает» в идеях Маркса то, что якобы там давно было. Это был широко распространенный прием: приписывать Марксу все, что делает его противником всякой партийной ортодоксии и
А. П.: Хотелось бы уточнить один момент. Для вас данный прием Мамардашвили — это лишь усложненная матрица двоемыслия, которое, по вашему мнению (и по мнению многих либеральных противников и критиков советского общества), доминировало в Советском Союзе? Не слишком ли такая интерпретация социологизирует, в
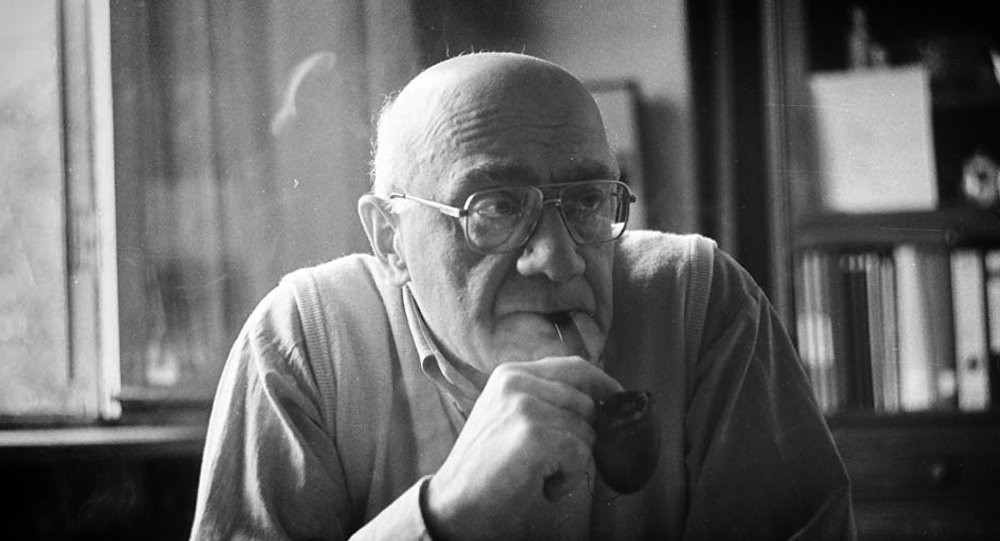
В. П.: Неудачи нашей работы с понятийным языком (философским) часто оказываются основным препятствием для понимания того, что мы говорим друг другу. Я хочу сказать, что Мамардашвили принял это двоемыслие как форму нейтрализующего идеологического подкрепления собственной позиции. Хотя это двоемыслие постоянно подвергалось атаке со сторон подлинных марксистов-ленинцев. «Одномыслие» — нападение, двоемыслие — защита. Мы не должны сводить понятие «двоемыслие» к однозначности термина и рассматривать его только негативно. Сегодня даже близко нет чего-то подобного тому двоемыслию, которое было просто необходимо в те годы, чтобы жить/выживать. И главное, быть всегда готовым к пассивному сопротивлению. Двоемыслие, конечно, не цинизм, не нигилизм разночинного люда XIX столетия, это отработанная столетиями имперского и сталинского крепостного права иммунная система общественного организма, уродливого, неполноценного, и вместе с тем воспроизводящая себя с большим разнообразием и эффективностью. Мамардашвили не был виртуозом эзопова языка, и тем не менее он вовсю пользовался институциональной программой смягчения идеологического давления со стороны КПСС на интеллектуальную элиту общества. Двоемыслие преобразовалось в усложнение и «заповедность» интеллектуального продукта. Стал значительно расширяться диапазон западных мыслителей, вовлеченных в комментарии, частичные переводы, изложения. Сложность и малодоступность мысли Мамардашвили приветствовались студенческой молодежью и молодыми учеными, но осуждались, например, коллегами.
А. П.: И другой, более общий вопрос. Напомню, сам термин «двоемыслие» (doublethink) был введен Дж. Оруэллом — заметим, антиавторитарным социалистом по своим взглядам — в романе «1984» (впервые опубликованном в 1948 году). С тех пор общество «реального социализма» изображается согласно этому изначально литературному канону: господство отчужденной псевдорациональной утопии, которая унижает индивидуальную свободу, распространяет двоемыслие, цинизм, потакает низким страстям и т. д. В антикоммунистическом дискурсе массы, населяющие советское общество, в противоположность мучительно переживающим свое двоемыслие избранным интеллигентам, «элитам», изображаются как беспроблемно принимающие раздвоенность действительности на парадную «официальную» и неприглядную «реальную». Им отказывается в праве на возможность мыслить, формировать свое независимое отношение к марксистской доктрине. После перестройки поток публицистических высказываний о советском двоемыслии был просто колоссальным — здесь я говорю об опыте восприятия своего, постсоветского, поколения. Эти разоблачения — безусловно важные для своего времени — формировали основу для возникновения новой официальной идеологии, которая воцарилась во время нашего интеллектуального и политического формирования. И поскольку мы также были критически настроены по отношению к догме — но уже другой, правой, либеральной, антикоммунистической, — она не могла не вызывать подозрения, особенно у тех, кто стал интересоваться традицией левого мышления, начиная с тех самых авторов, которых мы здесь упоминали (Лукач, Сартр, Альтюссер и др.). Безусловно, ваш анализ носит другой характер и опирается на ваше личное свидетельство как критического интеллектуала и ученого. Но все же вас не смущает близость понятия «двоемыслие» к базовому лексикону этой новой посткоммунистической (и антикоммунистической) идеологии? И разве мало двоемыслия в рамках современных капиталистических обществ, включая саму современную постсоветскую реальность? Возможно, не стоит переоценивать некое особое социалистическое двоемыслие и стоит искать другие языки и термины для описания этого исторического опыта? Понятно, что в случае вопросов, интересующих нас в этой беседе, этот опыт взят лишь как контекст советских «марксизмов», и это отдельная тема.
Маркс против марксизма, марксизм против Маркса. Это ритмическая структура советского двоемыслия.
В. П.: Действительно, разве стоит ломиться в открытую дверь, ведь она открыта… Так называемое двоемыслие можно определить и
3. Метаморфозы идеального
А. П.: Тем более интересно, учитывая описанную вами атмосферу позднего советского общества, философское обсуждение тем, которые ей, по крайней мере, внешне противоречат — прежде всего знаменитую дискуссию об «идеальном», одним из главных протагонистов которой был Ильенков. Читая Ильенкова, восхищаешься его прозрачным стилем, который варьирует от
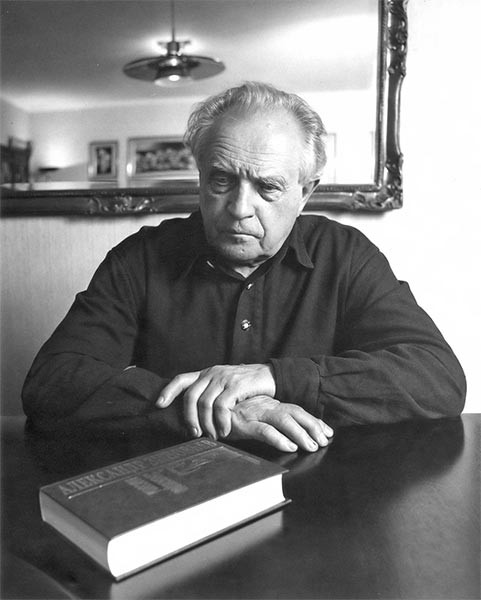
К. Ч.: Очень часто Ильенкова, а уж подавно Лифшица, обвиняют в том, что они, по сути, занимаются скорее Гегелем, чем Марксом. Ведь они реабилитируют такие понятия классической мысли, как «истина», «объективная реальность», «всеобщее», «идеал», — т. е. те понятия, которые предполагают монизм, пусть и диалектический, когда диалектика становится инструментом поддержания этого единства; в то время как западная философская мысль либо строится на дуализме мысли и бытия, либо разрешает вопрос разделения материи через отказ от таких категорий, как «идея», «идеальное», «универсальное» и др. Единство мысли и бытия, вера в разотчужденные сферы социального бытия в условиях исторического социализма — это то,
Единство мысли и бытия, вера в разотчужденные сферы социального бытия в условиях исторического социализма — это то,из–за чего альтюссерианский марксизм не доверяет социализму как строю.
В. П.: Вы поставили действительно важные вопросы. Без ответа на них не понять, какую роль сыграла концепция «идеального» для развития советского варианта марксизма. Первое, что сразу надо заметить: есть один единственный и общий подход, которому следуют все наиболее влиятельные из советских марксистов, начиная от Ильенкова и Зиновьева, далее к Щедровицкому, Мамардашвили и Лифшицу. Этот подход часто называли деятельностным (материалистическое кредо). И правомерность его применения обосновывалась во всех дискуссиях об идеальном, и особенно при более обстоятельном исследовании темы «сознание/познание».
Например, для Мамардашвили, такую роль играла теория «превращенных форм», но это уже была попытка «снятия» субъективных, деятельностных форм сознания. Выйти за границы марксистской пропедевтики к Марксу системно-структурному, а потом и за него — к Марксу как феноменологу сознания. Больше не нужен неявно предполагаемый Субъект деятельности, а ведь именно он обладатель «идеального», этой изначальной формы, необходимой для конструирования мира и себя в нем. Перед нами прекрасный пример двойного конструирования: мы конструируем мир, а он нас, и поскольку это происходит одновременно, мир получает импульс к развитию. Марксистский субъект страдает от нехватки идеального, чтобы охватить им всеобщее, т. е. вписать в один горизонт Природу, Общество и Сознание. Эту нехватку он компенсирует так называемой диалектикой, которая больше не вызывает доверия в качестве универсального метода. И сегодня, на мой взгляд, воспринимается в старых платоновских риторических формах или негативно.
А. П.: Ваше прочтение «идеального» как своего рода симптома нехватки, от которой страдает марксистский субъект, очень интересно, хотелось бы больше об этом узнать. Но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, что эта нехватка компенсируется диалектикой, которая позволяет вписать все сферы бытия в некую тотальность. Ведь и после Адорно были какие-то сдвиги в осмыслении этой темы. Например, диалектика может быть не только негативной и не основанной на тотализации, но может осмысляться как неустранимый парадокс, логическая аномалия, выражающий социальный антагонизм, который не может быть нейтрализован через простое «снятие»… С другой стороны, тот же Ильенков в поздней работе «Диалектика идеального», как кажется, понимает диалектику не как способ тотализации, стирающей различия, а скорее как логику и способ существования идеального в деятельности — в непрерывной метаморфозе распредмечивания (снятия), опредмечивания (полагания) и т. д. (Ильенков 2009).

К. Ч.: Я бы тем не менее добавила, что, несмотря на деятельностный подход к диалектике, телеология и проектность остаются для Ильенкова средоточием интерпретации идеального. Его диалектика насквозь холистична по той простой причине, что телеологичен для него любой процесс труда. Различие между Ильенковым и Лифшицем в интерпретации идеального было в том, что Ильенков понимал идеальное как
В. П.: В чем же секрет переводимости этих двух терминов Ideelle и Ideal, на которые обращает внимание Ильенков, а за ним и Лифшиц? Собственно, позиция Лифшица выглядит неопределенной, как и почти все, что он пишет. Не в меру диалектичен, он скорее отыскивает противоречия и несовпадения, чем предлагает выход или финальный вариант формулировки проблемы. Думаю, это часть его стратегии как марксистского критика: разворошить, «растрепать одну компанию» (Д. Хармс), но не исправить или скрыть. Идеальное в русском философском жаргоне определилось достаточно давно, как, впрочем, и термин «идеал», а вот то, что должно переводиться как идеализованное, Ideelle, совпадает с незаконченностью процесса, непереходностью, non-transit state, так называемых третьих вещей, или чувственно-сверхчувственной материи, является непосредственным условием функционированием сознания. Одно дело, когда сознание сосредоточивается вокруг некоей цели и условий ее достижения, обретает субъектность, даже Субъекта-в-действии, а другое дело, когда сознание функционирует в качестве сознания, без идеального, т. е. на уровне вульгарно-обыденных и естественных установок повседневного опыта, вне саморефлексии и критической самооценки.
Марксистский субъект страдает от нехватки идеального, чтобы охватить им всеобщее, то есть вписать в один горизонт Природу, Общество и Сознание.
Действительно, в чем вы правы, так в том, что теория отражения (по Павлову/Ленину/Лифшицу) является универсальной онтологией всеотражаемости материи, всего во всем, одного во многом, многого в одном и т. п. У Лифшица мы находим обширнейший комментарий к понятию «идеального». И это не случайно. Прежде всего Лифшиц хотел вернуться в современную философскую полемику, и второе, не менее важное: уточнить свои взгляды на марксистскую теорию отражения в сравнении ее с теорией сознания Ильенкова (Лифшиц 2003). Идеальное у него имеет стойкую аналогию, которой он постоянно пользуется, не стремясь ее как-то более критично осмыслить, — это зеркало. Метафора зеркала используется в нескольких смысловых заданиях: сначала как пояснение теории отражения: мир объективируется за счет его отражаемости в себе, за счет собственной зеркальности. Далее зеркало оказывается вообще тем, что может быть названо идеальным отражателем, т. е. отражает в себе мир и другие зеркала так, как они есть на самом деле:
«Для того чтобы приобрести сознание, отвечающее своей природе, то есть сознательности, человек нуждается в предмете, который может служить ему зеркалом данного круга явлений, носителем их всеобщего значения. Эта мысль верная, и она содержит в себе единственно возможное серьезное понимание теории отражения в системе материалистической философии Маркса и Ленина. Теория отражения есть, собственно, теория отражаемости самих объективных явлений, их зеркальности» (Лифшиц 2003: 262).
Понятно, почему идеальное, как оно представлено в гегельянских штудиях Ильенкова и Мамардашвили, так нуждается в сознании: чтобы освободиться от материи и выйти к одухотворенному Субъекту (действия). Для Лифшица, марксистского эстета-критика, теория отражения выступает и как основа натуралистического («соцреалистического») взгляда на произведение искусства.
Если обратиться к Гегелю периода создания «Феноменологии духа», то мы увидим, что уже тогда им была сформулирована основная идея диалектики идеального (сознания). Мы всегда в-сознании, и не можем из него выйти именно потому, что оно реально, как оно есть, так есть и само реальное. Причем эта диалектика — не просто метод, но сам принцип развития, который распространяется и на природу, вот почему гегелевская диалектика реальна.
Но что значит — реальна? Это значит, что сознание у Гегеля потому и реально, что является говорящим. Сознание — это непрерывно развертываемая человеческая речь. И эта речь находится в постоянном кружении, движется вперед, обращаясь назад, другими словами, это язык-в-действии, акте самоосуществления. Об этой определяющей роли языка в «Феноменологии духа» прекрасно знал Ильенков (но, например, никто из наиболее влиятельных толкователей Маркса этот вопрос о языке не ставил, или они его просто игнорировали) (Ильенков 1962: 222). Ведь гегелевский язык/речь — особый философский язык, он задан в движении, а это значит, он должен обладать такой спонтанностью, которая не могла быть искажена никаким явлением. Другими словами, сила выражения этого движения в языке настолько велика, насколько ничто не может ей помешать — никакое выражаемое. Тотальное превосходство выражения над выражаемым. А это ведет к уникальности, редкой самобытности гегелевского письма, со всеми его переходными моментами в понятии, которое развивается без остановок и пауз, разве только несколько задерживаясь, чтобы перейти на другой уровень саморефлексии и усилить движение. Понятие-в-движении — это и есть время речи, которая не должна прерываться, иначе мир погибнет…
Современная западная мысль (чаще всего в лице англо-саксонской философской традиции) допускает существование пустого сознания, сознания без человека, т. е., по сути, нечеловеческое (машинное, например). Его можно заполнять, структурировать, изменять, исследовать, и оно всегда останется открытым и беззащитным перед этим вторжением. Напротив, Мамардашвили, не обсуждая роль языка в гегелевской диалектике и не рассматривая вопрос о сознании как непрерывности речевого кружения/становления, тем не менее определяет самосознание всякого, кто мыслит, совершенно по-гегелевски, полагая, что подлинное философствование — это сознание в-слух, т. е. говорящее, не молчащее сознание.
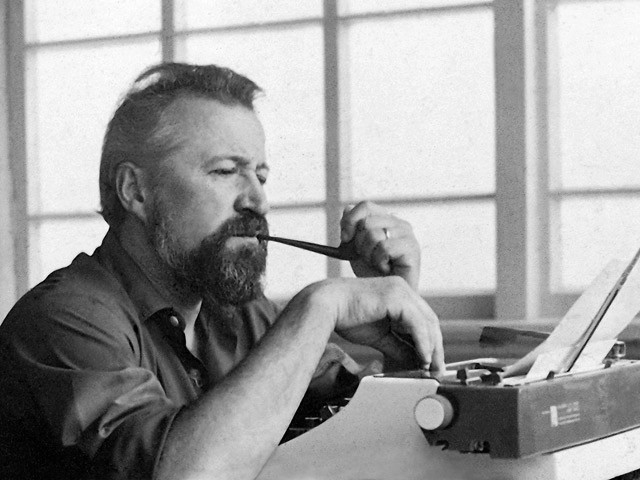
Мало кто замечал (да это и не обсуждалось никогда), что в основе марксистской доктрины «улучшенного» или «хорошего» Маркса лежит некая антропологическая установка: неуничтожимый, нестираемый отпечаток раннего просветительского архаизма — фигура Вечного человека (и человеческого). А это значит, что мы имеем дело, даже в самом продвинутом марксизме, с вариантами позиций деятельного, т.е. предельно активного Субъекта. И без него, как оказалось, марксизм даже в своих обновленных поствариантах не в силах существовать ни как доктрина, ни как идеология, ни как Идея, наконец. Предполагается (стоит только быть внимательным при чтении), что человек есть то, что есть, и его эволюционную форму не стоит обсуждать, он дан в наших суждения изначально, как Субъект, чьи новые характеристики мы должны получить. Но ставить под сомнение существование Вечного человека — просто безумие и откровенный дикий постмодернизм. Веру в этого Вечного человека можно предъявить многим французским интеллектуалам, хотя в своих работах и интервью они это отрицают. Более того, идет постоянная деконструкция господствующего в массовом сознании образа Суверена, Отца, Субъекта с большой буквы. Отсюда и появляются теории Субъекта-множества, на место некоего одинокого марксистского Субъекта, всемогущего и целеустремленного, приходит сообщество-множество, где субъективность не стягивается в
А. П.: Насколько я понял в целом ваш аргумент, вы считаете, что советская мысль унаследовала от Гегеля модель «говорящего сознания» с присущим ей антропологизмом, от которого она не смогла избавиться. Этот аргумент, безусловно, требует дальнейшего обсуждения в контексте различных интерпретаций Гегеля — от весьма близкой, на мой взгляд, интерпретации Кожева (Koжев 2013) до современных «лакано-гегельянских» подходов. Впрочем, мы вряд ли можем в них вдаваться в рамках этого диалога. И все же, как вы думаете, были ли в советском марксизме (или марксизмах) моменты, которые бы указывали на другую логику, нежели этот «антропологический сон», который с 1960-х критиковали Фуко, Альтюссер и др.? Например, тот же Лифшиц — по крайней мере, в своих эстетических работах — выступает с яростной критикой буржуазно-индивидуалистического «субъективизма», который искажает «зеркало» нашего восприятия мира, что, как кажется, указывает на этот путь… Также хотелось бы понять, какую иную программу (и теоретическую, и политическую) вы видите по отношению к весьма безуспешным (как следует из того, что вы сказали) поискам позднего советского марксизма, которые отчасти были продолжены в современной леворадикальной мысли?
В. П.: Ваша «альтернатива», насколько я понимаю, может быть переведена в вопрос: а какова ваша утопия, ваша философия надежды, во что верите, а во что нет? Я придерживаюсь и всегда придерживался умеренной позиции, и она, как мне кажется, достаточно ясно изложена в предисловии к «Апологии политического» (Подорога 2010). Вы ставите свой вопрос так, как если бы он был и «стандартным» и, конечно, «вне всяких подозрений», и это действительно вопрос, обращенный к вашей Вере. Вы сомневаетесь в том, что она есть, но она вам нужна. Где та граница, за которой возможен переход от Веры к Действию? Да ее просто нет! Там, где есть Действие, там нет Веры. Мое действие, которое я осуществляю, я называю политикой знания, т. е. таким знанием, которое в своем, пускай ограниченном, горизонте привносит новое видение в мир. И это знание критично, поскольку имеет неоспоримое преимущество перед псевдознанием демагогов и шутов СМИ, политических функционеров. Здесь Знание коррелирует с Истиной, которая усиливает нашу «веру» в Разум. Но это, конечно, не просто Вера и не «чистая вера», а вера, которая реализует себя посредством Истины, т. е. посредством обретенного знания. Политика этого знания в том, что оно не может быть поставлено под сомнение большой Политикой (т. е. оно не результат борьбы за власть), его цель — Истина.
Я уверен в том, что сегодня рассуждать о марксизме мы не можем так, как это делали тот же Ильенков и Лифшиц, Мамардашвили и Альтюссер, словно продолжая их «марксистский дискурс» в современной постмодерной эпохе. Однако замечу, что они не раскрывали свой контекст по цензурным соображениям, да и просто потому, что он был всегда налицо, «прямо перед глазами», в качестве повседневной фактичности общества зрелого социализма.
Проблема в том, что вся эта проблематика марксизма должна обсуждаться снизу, а не сверху, как это делали шестидесятники. Поэтому, когда вы говорите, «левый-левацкий», «правый-праволибе-ральный» или «класс», «отчуждение», «тотальность» и «тотализация» и т. п., вы как будто знаете, что это такое, но я именно в этом знании, не подкрепленном опытом и контекстом, могу сомневаться. Вы все заново по-старому называете, но не указываете на причины, послужившие поводом для такого использования марксистского языка. Вы как будто уже наверху, а на самом деле нет никакого всегда-марксизма, к которому можно было бы обратиться как к
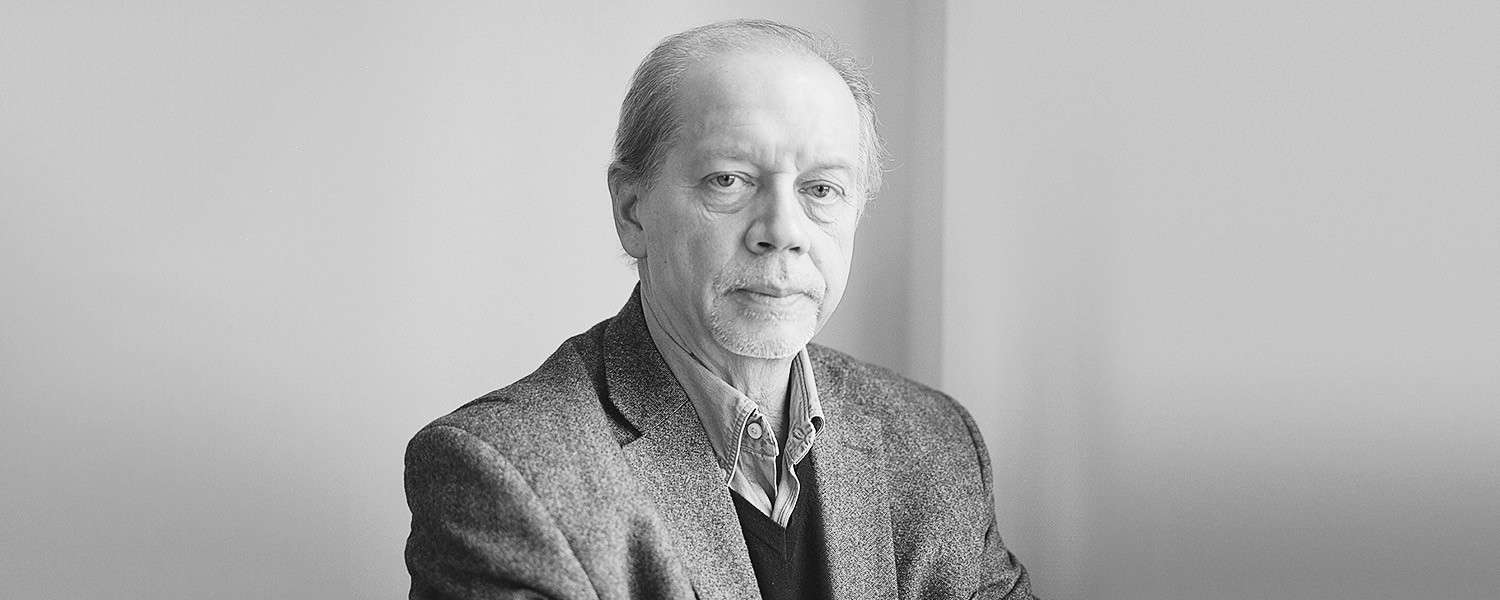
Что значит быть марксистом сегодня? Наша беседа словно зачарована этим вопросом, но не знает ответа. В моем же представлении быть марксистом сегодня — это не значит быть левым. (Не думаю, что левизна — знак принадлежности к марксистскому учению.) Я вовсе не отрицаю «ваши убеждения», да и не претендую их изменить. Вспоминаю Лифшица с его «Почему я не модернист?» и
А. П.: Позволю себе, возможно, заключительный комментарий. Я не имел в виду, конечно же, догматическую веру, слепо копирующую старую терминологию. Речь идет как раз о том, как возможен этот возврат к Марксу в новых условиях, где мы сталкиваемся, скорее, с идеологической догмой антикоммунизма, вместе с теми самыми «противоречиями» капитализма, которые после советского коллапса вернулись с небывалой и угрожающей, катастрофической силой, — в мире, который, как казалось, должен быть подчинен лишь некоей «постисторической» политике знания и критической рациональности. И этот поворот к философиям, связанным с именем Маркса, затрагивал не только часть постсоветского поколения, но был вполне интернациональным явлением с начала 2000-х годов. Вы прекрасно объясняете причины своих сомнений в том, можно ли использовать «старый» язык и понятийный аппарат марксизма или «марксизмов», и с точки зрения свидетеля, который обнаруживал себя в «фактичности» советского опыта, и, разумеется, с точки зрения своего собственного политического и мыслительного опыта, отраженного во многих выдающихся работах. Но все же мне хотелось бы заметить, что в том поколении — как в постсоветском, так и общемировом, — которое вновь стало использовать марксистский язык, присутствует довольно сложная рефлексия относительно условий возможности этого использования. Не имея здесь возможности развить этот тезис в деталях, укажу лишь на один момент. Так, на мой взгляд, эта рефлексия выражалась не в растущей из субъективного упрямства «вере», но в совершенно другом отношении к внутренней темпоральности огромной истории радикальной мысли и практики в XX веке — как советской, так и «западной». Прошлое не представлялось полностью закрытым или мертвым архивом, который можно лишь исчерпывающе проанализировать, но никак нельзя актуализировать. Подобный (своего рода абсолютный) историзм, скорее, отвергался, и искались другие способы отношения к истории — как философской, так и политической. Это своего рода анти-историзм, и, возможно, не менее продуктивный: лишь в другом времени прошлый интеллектуальный и политический опыт — пусть он даже был дан в формах совсем не гламурной советской «фактичности» или в ее же двоемыслии — может быть «искупленным» (как сказал бы В. Беньямин), заново прочитанным и исполненным. И советская мысль, исторически подвергшаяся двойному исключению как со стороны внутренней партийной догмы, так и со стороны «западного марксизма», только сейчас, после освобождения от этого двойного «захвата», имеет шанс стать действительно осмысленной и радикальной.
21 марта 2016 г., Москва, Институт философии РАН
Библиография
Белый, Андрей (1982). Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. Ann Arbor: Ardis.
Грушин, Борис (1961). Очерки логики исторического исследования. Процесс развития и проблемы его научного воспроизведения. М.: Высшая школа.
Зиновьев, Александр (2002). Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» Маркса). М.: ИФ РАН.
Ильенков, Эвальд (1962). Идеальное. М.: Советская энциклопедия.Ильенков, Эвальд (2009). «Диалектика идеального». Логос 1(69): 3–62.
Кожев, Александр (2013). Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука.
Лифшиц, Михаил (2003). Диалог с Эвальдом Ильенковым. Проблема идеального. М.: Прогресс-Традиция.
Лукач, Георг (2003). История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера.
Мамардашвили, Мераб (1968). Формы и содержание мышления. К критике гегелевского учения о формах познания. М.: Высшая школа.
Мамардашвили, Мераб (2011). «Анализ сознания в работах Маркса». В кн.: Мамардашвили, Мераб. Формы и содержание мышления, с. 229–230. СПб.: Азбука.
Мамардашвили, Мераб (2016). Встреча: Мераб Мамардашвили — Луи Альтюссер. М.: Фонд Мераба Мамардашвили.
Подорога, Валерий (2016) М.А. Лифшиц: ортодоксальный марксизм против modern art. Лекция Валерия Подороги в Музее «Гараж». http://www.youtube.com/watch?v=fCFpf6Koi4g
Подорога, Валерий (2010). Апология политического. М.: Высшая школа.
Хромченко, Матвей (2004). Диалектические станковисты. М.: Школа культурной политики.
Щедровицкий, Георгий (2004). На досках. Публичные лекции по философии Г.П.
Balibar, Étienne (2015). «Althusser and Communism». Crisis & Critique 2.2: 9–23.
