Левые или правые: кто победил по итогам XX века
В новой статье Иван Кудряшов пытается ответить на этот вопрос и предостерегает от будущих опасностей

Не так давно мне попалась на глаза статья об оксфордском экзамене All Souls College, в которой были приведены вопросы за один год. Самый первый вопрос всерьез меня заинтересовал, так как был сформулирован не редкость провокационно: «Кто победил по итогам XX века, левые или правые?».
Ответить на этот вопрос без
Однако прежде чем приступить к этому вопросу, стоит вспомнить, что левый и правый спектр в политике — это вещь не сама собой разумеющаяся. По большому счету «левый» — это тот, кто исторически связан с очень сложной системой идей и политических течений (от либерализма Нового времени через социалистические теории к целой палитре направлений: коммунизм, маоизм, левый центризм, троцкизм, зеленые партии и т.д.). Но связь эта может быть очень разной, поэтому стоит определить, что обычно понимается под левыми в США, Европе и у нас.
В США исторически не было классических левых (социалисты и коммунисты), поэтому левая часть спектра здесь определяется не названием или историей партии, а идеологией/программой политика. В целом наиболее ощутимо левые и правые здесь выделяются по отношению к государству: левые — за расширение вмешательства государства и федеральных служб, правые — за большую автономию граждан и штатов. Именно поэтому, говоря о США, почти невозможно разделить левых и (нео)либералов — все они в той или иной степени ориентированы на глобализацию и участие государства в образовании, культуре, природопользовании и многих других вопросах (которые традиционно были в ведении общин или штатов). В этом контексте все движения против дискриминации, демократическая партия и даже часть республиканцев — это по американским понятиям «леваки». В

В России, напротив, исторически левые почти идентичны социалистам марксистского толка (и почти всегда с ориентацией на интернационализм). Поэтому до сих пор левый спектр — это прежде всего те, кто представляют интересы пролетариата (работников наемного труда) плюс весомой части социально незащищённых. Как несложно догадаться, в чистом виде левые у нас — это небольшие, незарегистрированные партии, однако популисты катаются тоже в основном на левой тематике (по сути, к таким популистам можно отнести вообще все зарегистрированные партии России, кроме откровенно либеральных). Никаких классических правых консерваторов в нашей политической системе не сложилось, поэтому их место занимают либералы. Однако по большому счету отечественные либералы являются компрадорами, и поэтому если они и правые, то только потому, что отражают интересы части капиталовладельцев (финансовый капитал, ориентированный на экспорт), а не наемных рабочих.
В Европе левых и правых достаточно сложно разделить, так как в каждой стране свои традиции (более-менее схожи только страны бывшего Восточного блока). Впрочем, за вычетом нескольких регионов (Великобритания, Финляндия, Греция, Восточная Европа) типичным представителем левых в Европе считают социалистические демократические партии. И поэтому левых можно определить как сторонников социальных программ, а вместе с этим и вмешательства государства в культуру и частную жизнь граждан. В последнем они схожи с американскими левыми. Соответственно, умеренно-правые и центристы — это те, кто больший акцент делают на экономическом развитии (вне зависимости от платформы). У циничных французов даже есть шутка на эту тему: мол, мы голосуем за социалистов только потому, что они раздают деньги, а когда деньги заканчиваются, мы голосуем за правых, чтобы они вновь их накопили.
Из этого короткого экскурса важно зафиксировать разницу: между левыми в США и Европе есть некоторое сходство, но сказанное о них будет в очень малой степени относится к нашим реалиям. За одним исключением: там, где речь идет об отечественной культуре и искусстве, а не о политике, пересечений будет чуть больше.
Итак, если попробовать ответить на вопрос «Кто победил по итогам XX века, левые или правые?», то начать нужно с того, что любой ответ будет бессмысленным без анализа критериев «победы». Что же можно счесть за победу?
Левые слишком быстро и легко примирились со всеми последствиями капитализма. Чего ж теперь удивляться: как говорится, что растили, то и выросло. Поздний капитализм нашел золотую жилу в лице проблемы идентичности
В первую очередь, конечно, представляется, что под победой стоит понимать влияние и политический вес. Этот взгляд подсказывает очевидный ответ: победили левые. Посудите сами, в конце XIX-начале ХХ вв. это были в большинстве случаев маргинальные или запрещенные партии (а часто просто некие силы со слабой организацией). Спустя столетие они стали частью истеблишмента западных стран, у них свои лидирующие партии как в первом, так и во втором и третьем мирах (и речь идет не об однопартийных системах). То же самое касается и многих выдающихся политических лидеров прошедшего столетия: они либо были связаны с левыми партиями, либо представляли их. Например, ставшие едва ли не иконами — Че Гевара или Нельсон Мандела (состоял в Южноафриканской компартии).
И эти примеры позволяют отметить другой аспект: культурное влияние. Куда как большей победой стоит считать тот факт, что ощутимая часть ценностей левых стала общепринятой. Сегодня именно с левой (или леволиберальной) идеологией обычно ассоциируются демократия и гуманизм. По сути, самая главная победа левых в ХХ столетии — это моральная победа в области языка и культуры. В наши дни в первом мире быть открыто правым во многих обществах попросту стыдно или означает множество проблем, в том числе юридических. Открыто правого легко подвергнуть диффамации, обвинив в симпатии к фашизму, а это, напомню, в ряде стран вещи уголовно наказуемые (речь идет о законах, связанных с запретами на отрицание Холокоста, ревизию нацизма и результатов второй мировой, определенную символику и т.д.). Значительная часть правого сектора теперь ассоциируется с
На этом фоне правые могут похвастать лишь тем, что время от времени правые лидеры (как авторитарные диктаторы в Сингапуре или Южной Корее, так и демократически избранные политики вроде Тетчер) с помощью крутых мер наводили порядок в экономиках своих стран. Впрочем, даже эти достижения сомнительны, так как почти целиком опираются не на детальный анализ факторов успеха, а на изобильные славосоловия от сторонников (с замалчиванием примеров, где почему-то не получилось: например, в Латинской Америке).

Казалось бы, вопрос решенный. Однако, если вдуматься во все приобретения левых, можно увидеть диалектический процесс, состоящий также из потерь и, более того, приобретений, которые обращаются в ограничения. Возможно, именно эти потери гораздо серьезнее, чем достижения и победы.
Даже бросив поверхностный взгляд на сегодняшнюю ситуацию, мы увидим рост консолидации правых (почти как у левых, когда они были маргинальны). Сегодняшний Интернационал левых будет аморфным собранием людей, которым либо уже ничего на надо, либо, напротив, требуется слишком много (а именно — глубокая перестройка культуры и психологии людей). Интернационал правых, прежде казавшихся несовместимыми — почти реальность. Или уже состоявшийся факт. При этом речь идет не только об
Проблема еще и в том, что смешение морального и политического дискурса у левых — это отнюдь не достижение. Это откат назад, сулящий проблемы. Вместе с доминированием в культурном дискурсе левые получили власть, а власть — всегда искушение. Сегодня это уже проблема левых, которую придется однажды признать. Проявляется это в потере критичности, насаждении толерантности и других ценностей довольно авторитарным стилем. Для целого ряда авторов, коих никак не заподозрить в симпатиях правым (например, Славой Жижек), американские леваки стали едва ли не синонимом догматизма, неспособности к самокритике и двоемыслия. Увы, в данном случае речь идет не о «дыме, что не бывает без огня», а о настоящем пожарище — например, о так называемых social justice warriors, которые как-то очень странно поняли идею борьбы с дискриминаций (а именно как необходимость превентивно унижать и дискриминировать всех, кто относится не к меньшинству).
Особой иронией звучит и то, чем закончилась попытка левых бесконечно кататься на теме морального превосходства. Она закончилась тем, что противники и даже часть сочувствующих выработали иммунитет к обвинительной риторике. А американские альт-райты и вовсе запустили в интернете моду на откровенный игнор любых попыток морального осуждения. Это порождает бессилие и падение качества дискуссии, причем ошеломительно резкое падение. Уже сегодня американские пулитцеровские лауреаты, наплевав на Закон Годвина, ведут такие речи, что сходу и не отличишь от типичного имиджборда.
Для целого ряда авторов, коих никак не заподозрить в симпатиях правым, американские леваки стали едва ли не синонимом догматизма, неспособности к самокритике и двоемыслия
В
Меж тем, если позволить себе критичный взгляд, то даже факты истории, которые, как кажется, вписываются в общую канву победного шествия левых, на деле вызывают большие вопросы. Хороший (но не единственный) пример — американские чернокожие левые. В 40 — 70-е это очень мощная молодая культура, набирающая обороты, которая не только активно боролась за права пролетариата, но и порождала некоторую моду на черных борцов за справедливость. Как же случилось так, что в 80 — 2000-е черные стали ассоциироваться по большей части с криминалитетом, а не с пафосом свободы и равенства? Этот факт бросает большую тень на всех американских левых, как бы мы не проинтерпретировали эту эволюцию. Если так вышло само по себе, значит целый ряд тезисов левых (например, о самоорганизации масс, классовой солидарности, культурно-просвещенческой активности пролетариев) — нежизнеспособны. Если же это стало следствием чьих-то сознательных проектов, то за ними, получается, скрываются некие всемогущие правые (которые буквально добились своего не прямым, так косвенным способом — вместо прямой пропаганды о черных как насильниках и ворах теперь сами черные через
Яркий пример такого теоретического вытеснения — это попытка левых объяснить, почему «хорошие Сети» вдруг начали работать на «плохие идеи» (популярность Трампа, Брексит). Например, об этом рассуждает Герт Ловинк, даже не замечая, что прямым текстом признает: тенденцию к глобализации и управляемости сетей инициировали именно лево-либералы. Может быть, нужно было лучше осмыслить возможности сети, прежде чем пользоваться ею как оружием? Нет, даже намека на рефлексию не наблюдается.
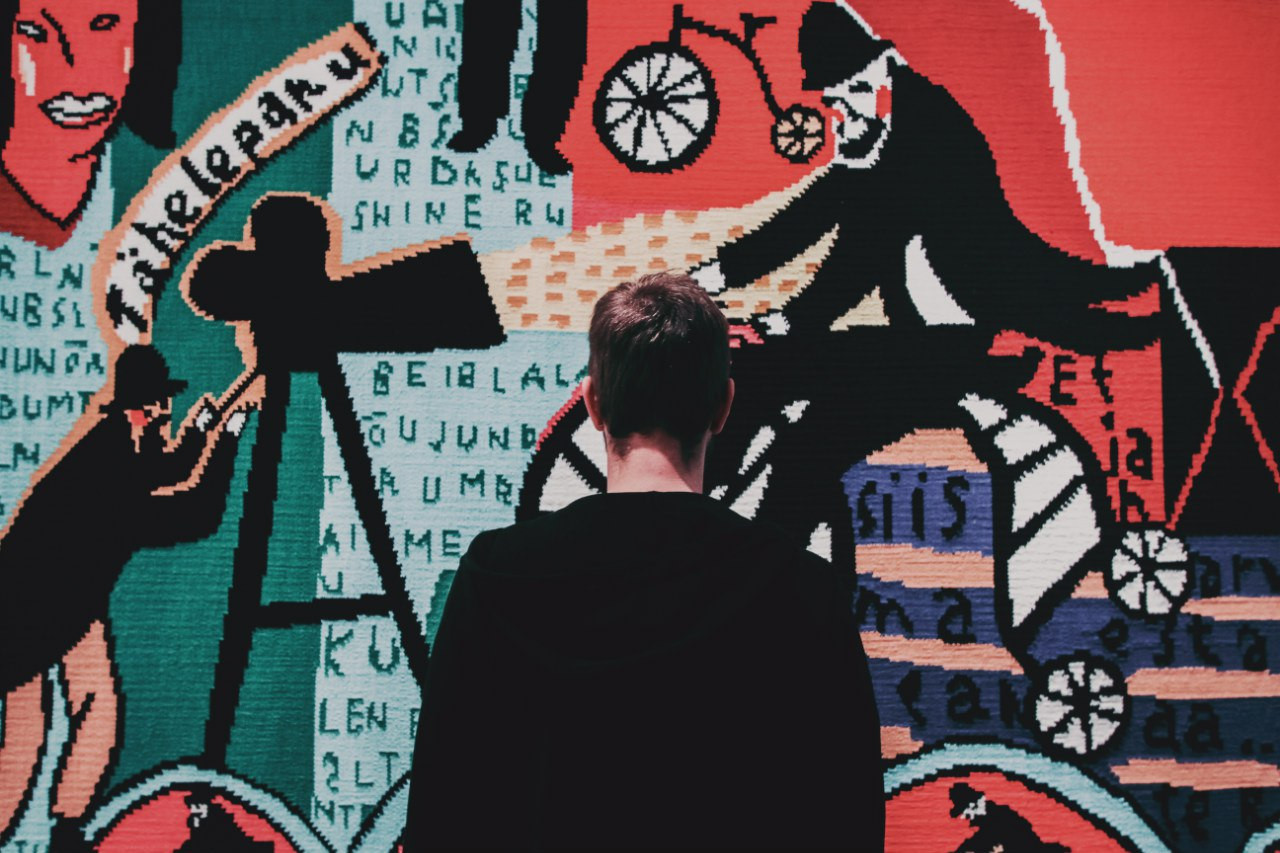
Так что по большому счету левые победили в ХХ веке, но рискуют (если уже не) потерять инициативу и смысл собственного существования в веке XXI. Веке, начало которого ознаменовано сильнейшей тенденцией уйти от мультикультурализма и постмодерна (по сути, левых идей) в сторону традиции и порядка в поисках своей идентичности.
В этом смысле левые слишком быстро и легко примирились со всеми последствиями капитализма. Чего ж теперь удивляться: как говорится, что растили, то и выросло. Поздний капитализм нашел золотую жилу в лице проблемы идентичности. Вот вопрос, которым современный человек не перестает задаваться, а значит, не перестанет и потреблять, если убедить его в связи одного с другим. На этом фоне совсем не удивительно, что какая-то часть общества заняла консервативную позицию в отношении своих идентичностей (это ведь точная аналогия с лояльностью бренду: не буду я пробовать новое, если меня устраивает старое, а уж тем более, если пытаются к новому принудить).
Левые идеи действительно расширяют пространство возможностей и требуют от нас чего-то большего, но не стоит забывать и о том, что люди консервативны не только в силу внешних условий (общество, культура), но и по самой природе. Люди — территориальные и статусные животные. Именно к правым ценностям стоит отнести все, что опирается на локус, коллективизм естественного типа (семья, район, народ), элитарность, верность себе и своей идентичности, культурный консерватизм (не ретроградство, а скепсис/осторожность в отношении нового в обществе и технологиях). Мне кажется, это как раз те вещи, в отношении которых радикализм, нахрап и желание «все снести, чтобы поверх построить новое» — не только неуместны, но работают строго против всякой левой идеологии. Старые методы больше не сработают (да-да, Гегеля и Маркса нужно было читать в колледжах). Способны левые изобрести ответы на вызовы нового века? Боюсь, пока никто не может ответить на этот вопрос — вопрос, от которого зависит будущее всех нас.
Фотографии Виши Эхо.
