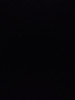Манифест суицидента-скептика
Часть 1. Суицидент
Представьте, что речь идет о бывшем больном депрессией, который пережил опыт дилеммы “Умереть или не умереть?”, опыт вопроса “Зачем жить?”, а потом выздоровел. Ему нельзя сказать, что его мысли определены его болезнью, и если он избавится от депрессии, то сам увидит, зачем жить. Ведь он выздоровел, а вопрос остался.
Перед ним точно так же стоит вопрос “Зачем я живу?” Он спрашивает: “С чего мы вообще взяли, что нужно отговаривать суицидника? Что если у нас есть жизнь, то нужно ее жить? Беречь, хранить? Что умирать — это плохо? Откуда мы знаем, что должно быть хорошо?”
Когда мы имеем дело с ситуацией, в которой друзья отговаривают больного депрессией, это одно. Но наша ситуация — это ситуация, в которой здоровый человек приходит к философу и спрашивает “Зачем я должен во всем этом происходящем участвовать? На каких таких основаниях?”
Что философ современного типа может сказать тому, кто хочет совершить суицид? Философ, живущий после всего, что было в философии? Сказать такого, чтобы он мог ответить за свои слова, ответить за их философскость? Знает ли он что-то, что может дать суициденту основания прекратить жизнь — или продолжить ее?
Бывший больной депрессией ни в чем не уверен, кроме того, что он жив и ему нужно что-то делать со своей жизнью. Перед нами — суицидент-скептик.
Суицидент-скептик не уверен, что происходящее с ним — проблема, которую нужно решать. Если бы он был уверен, если бы у него были основания для такой уверенности, он бы стал психотерапевтом. Он учил бы всех, что смысла в жизни нет и эту истину нужно взять за исходное, если мы не хотим страдать. Но он не уверен, что человек не должен страдать. И не уверен, что должен.
Можно спросить его: но что плохого в счастье? Если уж жизнь дана, то, может быть, лучше просто прожить ее и быть счастливым? Бороться со злом, стать политическим активистом, сделать что-то, что уменьшит насилие? Разве тут есть риск ошибиться?
Но суициденту-скептику не дает покоя подозрение, что он не свободен. Что есть великая неувязка между 1) жизнь дана и 2) значит, надо жить. Что ощущение счастья — та еще манипуляция, которая заставляет его наслаждаться жизнью и продолжать жизнь.
А что, если главное зло — сама жизнь? Сам живущий, само бытие, само желание жизни? Если между влечением к жизни и влечением к смерти идет война, то жизнь в ней занимает более выгодные позиции. Жизнь ходит белыми: для того, чтобы просто искать ответ на вопрос “зачем жить?”, нужно уже быть живым. Мы заброшены в жизнь, и мы вынуждены платить за жизнь цену, которую с нами никто не обговаривал.
Жить — значит быть насильником. Любое столкновение с Другим на онтологическом уровне является насилием, поскольку сущие конкурируют за место в бытии: сущее стирает, стачивает другое сущее, с которым оно взаимодействует, изнашивает его, уменьшая срок его жизни. Вода насилует камень, камень насилует другие камни, человек приходит и не остается ни воды, ни камней. Чтобы спать, мы срубаем дерево, чтобы есть, мы душим на воздухе рыбу (она умирает в агонии), чтобы построить дом, мы взрываем к чертовой матери фундамент. Вместо того, чтобы обнимать кого-то, можно сразу взять наждачку или натереть его кожу на терке.
Два года идет безумная война, но жизнь уже была ужасной задолго до ее начала. Мы не знаем, каким бы был мир, в котором влечение к комфортной жизни не вело бы к компромиссам, но это был бы другой мир.
Никто из тех, кто остался жить, не чист.
Вы имеете все основания для мизантропии. Мы все отказались от немыслимого и невозможного, чтобы жить дальше. Студент слышит зов невозможного и немыслимого. “Жить не могу ты слышишь я сейчас здесь взорвусь”. Но у него нет времени идти по этому пути, ему нужно сдать текст, потому что если он его не сдаст, его отчислят, а если его отчислят, жизнь станет еще сложнее. Опыт счастья стал для нас прививкой: он инфицировал нас влечением к жизни, которое заставляет нас идти на компромиссы, и вот счастливым нам уже нет дела до рыбы и до войны.
С другой стороны, у нас нет никаких абсолютных оснований, чтобы думать, что насилие и страдание — это что-то плохое, а плохое — это что-то, чего в бытии быть не должно. Не знаю, можно ли придумать пытку похуже, чем оставленность перед вечной необходимостью выбирать.
Суицидент потому и суицидент-скептик, что он не уверен даже в том, нужно ли ему умереть. Он не уверен, что суицид или апокалипсис — это самый продуманный вариант.
Хотя суицид и привлекает его по нескольким причинам.
Во-первых, потому что жизнь иногда просто невыносима.

Во-вторых, потому, что он не знает других выходов из детерминированности. Ему, как всем, постоянно нужно делать какой-то выбор. И ему хочется сделать правильный выбор. Выбор, максимально учитывающий все, что можно учесть, выбор, в котором последствия продуманы на много шагов вперед, выбор, который исходит из космического целого, из бытия как единого.
Но ему страшно, что его выбор — или выбор того, кто дает ему совет — определяется включенностью этого человека в конкретный участок мира, ограниченностью опыта. Все ответы кажутся ему частичными и ограниченными, предопределенными, несвободными — и только смерть кажется выходом.
Он знает, что выбор часто совершается просто так. Что у выбора не обязательно должны быть осознанные основания и можно просто подбросить монетку, чтобы не застывать в неподвижности. Но он не знает, зачем выходить из неподвижности.
У него нет никакого подлинного, похороненного внутри тайного желания счастья. Ему нельзя сказать: “Допустим, ты достиг цели — и сделал правильный выбор. Давай пофантазируем, что ты будешь делать?”, чтобы понять, чего он хочет “на самом деле”. Он хочет знать, что выбрать.
Часть 2. Скептик
У суицидента-скептика нет цели и нет критериев достижения цели. У него нет ориентира, глядя на который он мог бы сказать: “Вот что для меня значит успех”. Он не знает ни одного человека, на которого он бы хотел быть похож. Он не знает, каков критерий хорошего философа.
Никто из тех, кто существует или существовал, не может ему помочь. Потому что они существуют — и сущее определяет их. А значит, они не могут сказать небывалого, невозможного. Для него нет учителя: он ходил со своим вопросом к учителю, но ответы учителя были слишком позитивными.


Он — квир, то есть тот, кто ускользает от определений: как только квир говорит “я квир”, он перестает быть квиром. Сам он никогда не назовет себя суицидентом-скептиком. Концепт суицидента-скептика — это засвет между речью рассказчика и прямой речью суицидента-скептика.
Суицидент-скептик выступает против онтологического мышления, то есть мышления о сущем в ситуации, когда требуется мышление о должном или же практическое действие.
Он устал от философов-онтологов. Он взрывается: “Да, мы уже поняли. Да, да, да.
Но сколько можно находить личное спасение в том, чтобы просто говорить о проблеме? Становиться писателями, психологами, режиссерами, преподавателями философии?”
Он не хочет формулировать исследовательский вопрос, то есть переводить свое состояние в модус задачи. Сужать его так, чтобы оформились константы и условия, исходя из которых можно ставить вопрос и искать ответ. Он не хочет, чтобы сформировался предмет, под который можно подобрать метод. Он говорит: “Это как отгадывать при просмотре фильма, кто убийца. Ведь уже понятно, кто: по ракурсу, таймингу, ружью на стене, фокусу камеры. Понятно по рассказчику, который, должно быть, сидел и думал, какие визуальные средства лучше всего подходят для выражения этого тезиса; а даже если не думал, то наитие подумало за него. То есть задача в этом случае заключается в том, чтобы занять точку зрения рассказчика, демиурга, бога. Но так можно узнать только то, что уже есть, а не что возможно или должно быть. Может быть, задача заключается в том, чтобы самому попробовать стать богом. Самому придумать идеальный сеттинг”. Суицидент-скептик хочет понять, что делать, но так, как если бы он не был детерминирован ничем, как если бы он был на месте бога, в полной пустоте.
Он не доверяет наитию, откровению, случаю, тому, что может открыться в открытости, даже если оно нечеловеческое, дочеловеское, божье, великое внешнее. Потому что может открыться только то, что есть; только в мире, который есть, может случиться случай; только от бога, который хранит все истины, может снизойти откровение. Он не доверяет практике письма. Потому что в письме может открыться только то, что уже есть в языке или что принципиально в нем возможно.
Он не понимает, почему сеттинг, константы, структуры должны должны определять нас, а не мы их. Ему кажется, что письмо и мышление имеют предел, который предопределяет результат, пусть и оставляя пространство для маневра. Он говорит: “Мы все равно мыслим исходя из того, какие мы, какие у нас способности. Да, человек с планеты Земля Солнечной системы галактики Милки Вей не может мыслить так, как существо Йшашцвсшщоцфщ с планеты Цшрушрукшгр галактики Ъмлазцдуз. Что сделать, чтобы свободный выбор стал возможен? Открыть неоткрытые способности? Или, может быть, пересоздать мир?”
Он не хочет заниматься работой, результаты которой уже потенциально есть, потому как их можно вывести из того, что есть, в качестве следствий.
(Какая разница, появится этот текст или нет?)
Не хочет создавать знание на плоскости, в границах оформившегося региона. Все это может делать человек и, скоро, Искусственный интеллект, все это — калькулятор, только текстовый, гуманитарный. Все это движение вширь, то есть движение, не выходящее за рамки архитектоники калькулятора, логики, математики, понятий, онтологического мышления.
Он — буриданов осел. Он стоит неподвижно, чтобы удержать все, чтобы все оставалось возможным. Он удерживает все в потенции.

Он хочет актуализировать что-то, но он не уверен, что актуализировать — правильно. Большой вопрос в том, можно ли назвать его главной его чертой амеханию? Или амехания — не цель, а только средство?
Он понимает, что чем больше он тянет с выбором, тем дольше он продолжает ехать по рельсам, проложенным не им. Но ему кажется, что другого выхода нет, что остановка — это единственное пространство для маневра внутри этой системы, этих правил игры. Он удерживает вопрос, продвигаясь дальше, собирая все, что к этому моменту созрело, ища выхода из помещения и из пространства, ища вертикальный лифт из сущего в должное, в невозможное, в небытие.
Необходимость выбора то и дело сталкивает его с проблемой: от сущего к должному нельзя проложить мост. Он знает, что “чтобы быть счастливым, нужно отдыхать и бегать, заниматься сексом и улыбаться, дружить и ходить кино, что-то там про нежность, горы и блаблабла”. Но он не знает, зачем быть счастливым. Он ничего не имеет против счастья и не говорит, что нужно быть несчастным. Но вдруг самое ценное — свобода — несовместимо с счастьем?
К тому же, для того, чтобы стать счастливым, достаточно уничтожить понятие идеала — и не обязательно создавать идеальный мир. Может быть, вся проблема в том, что у нас не те ценности? Нужно отменить понятие счастья и признать, что может быть плохо?
Что ищет суицидент-скептик? Абсолютное знание? Или абсолютную ценность? Он хочет двигаться к ценности, отталкиваясь от сеттинга? Или он хочет двигаться к новому сеттингу, отталкиваясь от ценности? Он натыкается на пределы философии. Понятие “свободы” и понятие “счастья” взламывают философию. Здесь — шов между регионами дискурса.
Часть 3. Культурный профайл суицидента-скептика
Спусковым крючком его врожденной болезни стал постмодерн. Он живет в эпоху, когда взрывы в реальности уже нельзя отличить от взрывов на экране. Он живет после школы подозрения и то и дело ощущает себя обманутым. Он читает тексты, которые имеют характер “заметок в телеграфном стиле”: в них много разрывов, недоговоренностей, нераскрытых тезисов. Он — продукт эвристического обучения, продукт проблемного обучения. Он учился в системе, в которой немыслимо было услышать от учителя “Нет, вы не правы”, в которой учитель соглашался и с правым, и с левым. Может быть, у него был научник-корреляционист, от которого он хочет сепарироваться.
Он — девочка.

Суицидент-скептик на самом деле суицидентка. Это девочка или ребенок. Потому что мужчина или взрослая женщина не имеют возможности ничего не делать, не имеют права на амеханию, они вынуждены работать.
Он — студент. Можно смотреть на мучения суицидента как на шоу. Смотреть, как его выгоняют из академии, потому что он ничего не пишет. Ну пропустит он все дедлайны. И что? Ну выгонят его из академии? И что? Ну будет он сидеть на шее у мамы или станет бомжом? Ну найдет он среднюю работу, хорошего психотерапевта, может быть, даже станет дурацким тупым профессором, популярным идиотским философом, красивой завидной интересной женщиной — и женится на приятном человеке. И что?
Ну умрет он. И что? И что? Кому это нахуй нужно? Что все это значит? Что все это значит?