Интеллектуальная гипертрофия: модернизмы и постмодернизмы
Сохранит ли искусство свою художественную ценность, если лишить его всякой интерпретации? Под впечатлением от прочтения эссе С. Сонтаг “Против интерпретации” хочу поразмышлять об интеллектуальной гипертрофии в современной культуре.
“Принцип избыточности” — так называет С. Сонтаг главный недуг нынешней жизни — касается как культуры, которая зиждется на перепроизводстве и перепотреблении, так и человеческого мышления, которое отчаянно сопротивляется пустоте и прямоте.
Скажем, сегодня невозможно представить выставку, которая бы не сопровождалась текстом. Текст дополняет экспонат, если вовсе не подменяет его собой. Экспонат есть текст об этом экспонате. По словам Джозефа Кошута, автора эссе “Искусство после философии”, произведение искусства “есть некое предложение или высказывание (proposition), предстающее в контексте искусства как комментарий к искусству”. В этом смысле всякое современное искусство — концептуально. Без интерпретации оно лишается своей идеи. Значит ли это, что оно лишается своей ценности?
Художественная ценность — феномен любопытный. Мы знаем, что определить ценность того или иного произведения достаточно сложно, если не сказать — объективно невозможно, потому арт-рынок вынужден обосновывать ее способами, лежащими вне прагматических смыслов. К тому же, рыночная стоимость произведения искусства мало зависит от его потребительской ценности и, соответственно, от общественного мнения о его ценности. Искусство стоит столько, сколько за него готовы заплатить — единой формулы здесь нет и, в общем-то, быть не может. Да, существуют некие условные критерии, но важно понимать, что все они выходят далеко за рамки художественного мастерства, визуальной гармонии и эстетики.
По сути, интерпретация искусства есть его оправдание. Ведь в конечном итоге произведение искусства — это то и только то, что названо произведением искусства. И здесь можно вспомнить множество доказательных примеров [М. Дюшан, Дж. Кошут, П. Мандзони, Й. Бойс, М. Рей, Й. Оно и проч]. Окружая произведение контекстом, автор как бы защищает свое утверждение, превращает его в сакральный суперзнак; наделяет душой пустой, мертвый объект, делает его нарративно значимым, “полезным”, то есть дает ему право на существование.

“Можно утверждать, что если одну из коробок Джадда наполнить мусором и поместить в индустриальную среду (и даже просто поставить на улицу), то она не идентифицировалась бы как искусство. Отсюда следует, что понимание и осмысление ее как произведения искусства будет лишь априорным и должно предшествовать непосредственному рассмотрению ее как артефакта” — отмечает Джозеф Кошут в эссе “Искусство после философии”.
Вспомним работы Анны Желудь — и то, как именно они представлены в рамках выставки в МАММ “Вдох выдох”, открытой вплоть до конца января 2026 года. Произведения [зафиксированные в вакууме объекты — утюги, чашки, ведра, вазы с цветами и т. д.] сопровождаются дневниковыми записями художницы — и звучат именно благодаря ним.
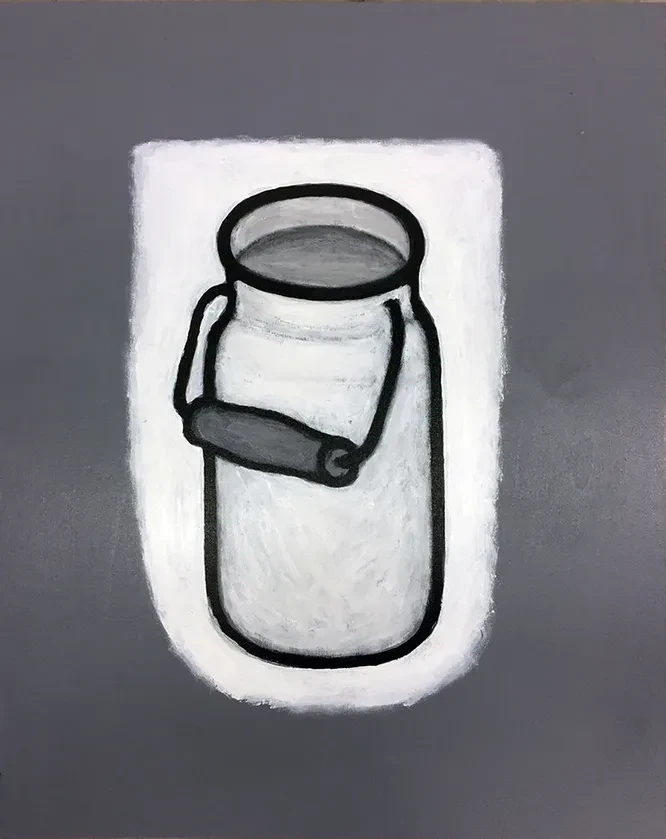
“Размышляя о том, как род моей деятельности попал в категорию “красота неприглядности”, меня сбрасывает во времени к училищным годам, где руководитель нашей студенческой мастерской, вопреки школьному реквизиту из шелковых драпировок и ваз с фруктами, ставил нам в качестве натюрмортов ржавую паяльную лампу с куском провода, например, или сухую рыбу на тухлой газетке или просто дрель на ободранном табурете. Именно тогда, пятнадцать лет назад, будучи послушной ученицей, я и осваивала вектор пути своего будущего развития. Вскоре я уже самостоятельно стала работать с антикрасотой, уйдя из академического училища и резко преодолев черту понятия “некрасивое”. С тех пор во мне мало что изменилось. Например, непомерная любовь к гаражам. С них, пожалуй все началось и так и продолжается: тяга ко всякому помойному хламу, типа эмалированной посуды 60-х гг., утюгов, стиральных досок, металлолома, пейзажей с гнилыми домишками и заборами. <…> Что же все это такое? окружающие бытовые вещи… осознание контекста в котором живу… любование непроизвольно возникающими произведениями… попытки найти новинки мировоззрения… способы смирения и пути адаптации… А по большому счету — просто наследование нон-конформистских тенденций”
[Анна Желудь]
Только лишь отражать действительность, фиксировать ее, сохраняя нечто от детского любопытства, от наивной очарованности открытием — уже недостаточно. Культура требует от художника игры, она требует от произведений им создаваемых — глубины, которая бы провоцировала у зрителя “интеллектуальные рефлексы дешифровки” [Ж. Бодрийяр], эмоциональное и символическое участие. Современное искусство не работает вне окружения окружения, вне определенных рамок — можно даже утверждать, что именно этими рамками оно — или, точнее сказать, его смысловая архитектура — и создается.
В искусстве модернизма и постмодернизма все наблюдаемые феномены берутся в скобки, по выражению Фрейда, как явное содержание. А явное содержание — пишет С. Сонтаг — зондируется и отодвигается, чтобы найти под ним истинный смысл, скрытое содержание. “Писатель порою настолько смущен голой силой своего искусства, что готов вмонтировать в произведение — пускай не без робости или с благородным оттенком иронии — ясную и недвусмысленную его интерпретацию” — отмечает Сонтаг. В противном случае — найдутся те, кто с большим энтузиазмом возьмут эту работу на себя: кураторы, искусствоведы, критики, дилеры и прочие акторы арт-среды.
На самом деле, все эти смысловые надстройки [хотя, в нашем случае, корректнее было бы назвать это смысловым фундаментом] — очень гибкий инструмент, программирующий, в каком-то смысле даже узурпирующий, перцептуальный опыт зрителя. Потому мы можем утверждать, что современное искусство — это искусство чистой манипуляции. По сути, именно об этом, в общем-то, и говорил Ж. Бодрийяр в своей статье “Заговор искусства”.
"Когда Ничто выходит на уровень знака, когда Ничтожность внезапно возникает в самом центре системы знаков — это является фундаментальным событием искусства. Это поистине поэтическое действо — сотворить Ничто, равное [à la] силе знака; это вовсе не банальность или безразличие к реальному, а радикальнейшая иллюзия. Так Энди Уорхол по-настоящему ничтожен, в том смысле, что он помещает ничтожность в саму основу образа. Он делает из ничтожности и незначительности нечто, что превращает их в фатальную стратегию образа <…> За всеми этими бесчисленными инсталляциями и перформансами нет ничего, кроме игры в компромисс одновременно с нынешним положением вещей и всеми прошлыми формами из истории искусств. Исповедование неоригинальности, банальности и ничтожности, возведенное в ранг эстетической ценности или даже извращенного эстетического наслаждения. Естественно, что вся эта обыденность претендует на то, что она становится более возвышенной, переходя на следующий, иронический уровень искусства. Однако и на этом втором уровне все остается столь же ничтожным и незначительным, как и на первом. Переход на эстетический уровень ничего не спасает, как раз наоборот: получается обыденность в квадрате”.
[Жан Бодрийяр, “Заговор искусства”]
Современное искусство как бы говорит на языке философии, но в отличие от философии — не задает вопросы, а предлагает ответы. В эссе “Против интерпретации” С. Сонтаг пишет: “Интерпретация, основанная на весьма сомнительной идее, будто произведение художника состоит из элементов содержания, насилует искусство. Она превращает его в предмет для использования — для помещения в схему категорий”.
В нашу переходную эпоху, когда, казалось бы, все и обо всем уже сказано, когда все повестки исчерпаны, естественно и неизбежно художественный процесс приходит к необходимости деконструкции, к нарушению нормы, а затем — к нарушению нормы ради нарушения нормы.
Оказались ли художники заперты в этой ловушке от бездарности, незнания или безысходности?
Автор текста: Веста Коврижных
