Борис Гройс. Искусство в интернете
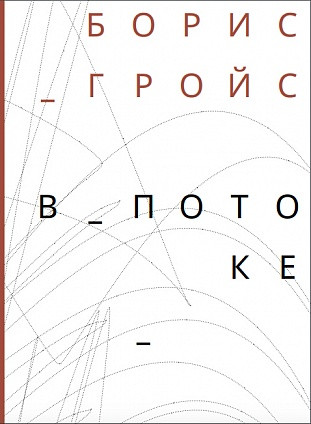
В рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и издательства Ad Marginem выходит книга «В потоке» ведущего теоретика искусства Бориса Гройса. Главная ее цель — описать изменения, произошедшие в современном искусстве, когда вера в стабильность художественных институтов постепенно была утрачена, художники стали создавать события вместо объектов, а главным медиумом производства и распространения искусства стал интернет. Мы публикуем заключительную главу этой книги, в которой автор рассуждает об интернете как дефикционализаторе искусства и разрушителе автономии субъекта — в то же время способном открыть нам новый утопический потенциал архива.
Книга появится на полках 26 марта, но на сайте «Гаража» уже открыт предзаказ, вместе с которым можно получить бесплатную подписку на Bookmate.

В последние десятилетия интернет стал основным местом производства и распространения текстов (в том числе литературных), художественных практик и, в более широком плане, культурных архивов.
Многие деятели культуры переживают этот сдвиг как освободительный, поскольку интернет не избирателен — или, по крайней мере, значительно менее избирателен, чем музей или традиционное издательство. В прежние эпохи художников и писателей беспокоил вопрос о критериях выбора: почему некоторые произведения искусства попадают в музей, а другие нет, почему публикуются одни тексты, а не другие? Существуют, так сказать, католические теории, объясняющие, почему произведение достойно или недостойно такого выбора: чтобы попасть в музей или быть опубликованным, это произведение должно быть хорошим, красивым, вдохновляющим, оригинальным, творческим, сильным, выразительным, исторически релевантным, — можно привести сотни таких критериев. Однако эти теории потерпели неудачу, потому что никто не мог убедительно объяснить, почему то или иное произведение более красиво, оригинально и т. д., чем другие. Или почему конкретный текст написан лучше, чем любой другой. Поэтому на смену им пришли теории скорее протестантского, а то и кальвинистского толка. Согласно таким теориям, произведения искусства выбираются, потому что выбираются. Представление о божественной власти — абсолютно суверенной и не нуждающейся ни в какой легитимации — было перенесено на музей и другие традиционные институты культуры. Эта протестантская теория выбора, которая подчеркивает безусловную власть того, кто этот выбор осуществляет, стала предпосылкой институциональной критики: музеи и другие институты культуры были подвергнуты критике, по сути, за то, как они пользуются и злоупотребляют своей предполагаемой властью.
Применительно к интернету эта разновидность институциональной критики практически лишена смысла. Конечно, во многих государствах практикуется политическая цензура интернета, но это отдельная история. Здесь же встает другой вопрос: что происходит с искусством и литературным письмом в результате их эмиграции из традиционных институтов культуры в интернет?
Исторически литература и искусство считались пространствами фикции. Далее я намерен показать, что использование интернета в качестве главного медиума производства и распространения искусства и литературы ведет к их дефикционализации. Традиционные институты — музей, театр, книга — представляли фикцию как фикцию путем самосокрытия. Сидя в театре, зритель должен был достичь состояния самозабвения, то есть забыть о том пространстве, где он находится. Лишь тогда он мог духовно покинуть повседневную реальность и погрузиться в фиктивный мир, представленный на сцене. Читатель должен был забыть о том, что книга представляет собой материальный объект наподобие любого другого, чтобы следить за ходом повествования и наслаждаться им. Посетитель музея должен был забыть о самом музее, чтобы внутренне уйти в созерцание искусства. Другими словами, функционирование фикции как таковой предполагает сокрытие материальной, технической, институциональной основы, которая делает это функционирование возможным.
Между тем по крайней мере с начала XX века искусство авангарда пыталось выявить фактическое, материальное, нефиктивное измерение искусства. Оно делало это, тематизируя институциональную и техническую основу искусства — действуя вопреки этой основе и тем самым делая ее видимой, ощутимой для зрителя и читателя. Бертольт Брехт стремился разрушить театральную иллюзию. Искусство футуризма и конструктивизма приравнивало художников к индустриальным рабочим и инженерам, создающим реальные вещи — даже если эти вещи могли интерпретироваться как имеющие отношение к фикции. То же можно сказать о литературе: начиная с Малларме, Маринетти и Зданевича создание текстов понималось как создание вещей. Хайдеггер понимал искусство именно как борьбу с фиктивностью. В своих поздних текстах он говорит о технической и институциональной основе (Gestell) как сокрытой позади картины мира (Weltbild). Субъект, будто бы суверенно созерцающий картину мира, неизбежно теряет из виду основу этой картины. Наука тоже не в состоянии выявить эту основу, поскольку сама зависит от нее. Только искусство может обнаружить скрытый Gestell и продемонстрировать фиктивный, иллюзорный характер наших картин мира. Здесь Хайдеггер явно имеет в виду авангард. Однако авангард в полной мере так и не преуспел в своей погоне за реальным, потому что реальность искусства, его материальная сторона, которую он пытался выявить, подвергалась рефикционализации, будучи помещенной в стандартные условия художественной репрезентации.
Это и есть то, что изменил интернет, причем довольно радикально. Функционирование интернета предполагает его нефиктивный характер, его связь с
Но, что важнее всего, в интернете искусство и литература не получают фиксированной, институциональной основы, как в мире, где доминируют аналоговые технологии. Здесь фабрика — там театр; здесь рынок — там музей. В интернете искусство и литература работают в том же пространстве, что и военное планирование, туристический бизнес, финансовые потоки и т. д. Google показывает, среди прочего, отсутствие стен в пространстве интернета. Конечно, есть специализированные веб-сайты и блоги, посвященные искусству. Но, чтобы выйти на них, пользователь должен на них кликнуть и тем самым вывести на экран своего компьютера, планшета или мобильного телефона в виде фрейма — дать им основу. Таким образом, основа деинституциализируется, а получившая ее фиктивность дефикционализируется. Пользователь не может игнорировать основу, потому что сам создал ее.
Эта операция становится эксплицитной и остается таковой на протяжении всего процесса созерцания или письма. Сокрытие основы, которое столетиями определяло наше восприятие фиктивного, подходит к концу. Искусство и литература по-прежнему могут указывать на фикцию, а не на реальность. Однако мы в качестве пользователей уже не погружаемся в эту фикцию, не проходим, подобно Алисе, сквозь зеркало; напротив, мы воспринимаем производство искусства как реальный процесс, а произведение искусства — как реальную вещь. Можно сказать, что в интернете нет искусства и литературы, а есть только информация об искусстве и литературе наряду с информацией о других сферах человеческой деятельности. Так, в интернете можно найти литературные тексты и произведения искусства конкретного писателя или художника, если погуглить его имя, и они будут показаны в контексте прочей информации об этом человеке, включая его биографию, другие произведения, политическую активность, критические статьи и сведения о личной жизни. «Фиктивный» текст того или иного автора оказывается интегрированным в информацию об этом авторе как реальном человеке. В интернете авангардный импульс, двигавший искусством и литературой с начала XX века, находит свое воплощение, свой телос. Искусство предстает здесь как особая разновидность реальности: как процесс работы или даже жизни, разворачивающийся в реальном мире, офлайн. Это не значит, что эстетические критерии не играют никакой роли в представлении данных в интернете. Однако в этом случае мы имеем дело не с искусством, а с информационным дизайном — с эстетической презентацией документации о реальных событиях искусства, а не с продуцированием фикции.

Слово «документация» является тут ключевым. За последние десятилетия документация об искусстве стала всё чаще включаться в художественные выставки и музейные экспозиции наряду с традиционными произведениями искусства. Но это соседство всегда казалось крайне проблематичным. Произведения искусства являются искусством: они непосредственно демонстрируют себя в качестве такового, вызывая восхищение, эмоциональные переживания и т. д. Кроме того, произведения искусства фиктивны: их нельзя предъявить как доказательства в суде, они не гарантируют истинность того, что представляют. Но документация об искусстве не является фиктивной: она отсылает к художественному событию, выставке, инсталляции или проекту, которые, как предполагается, действительно имели место. Документация об искусстве указывает на искусство, но она не есть искусство. Поэтому документация может быть переформатирована, переписана, расширена, сокращена и т. п. Мы можем подвергнуть документацию об искусстве всем тем процедурам, к которым запрещено прибегать по отношению к произведению искусства, поскольку они поменяют его форму. А форма произведения искусства защищена институционально, ведь только она гарантирует воспроизводимость и идентичность фикции, которой это произведение является. Документацию же можно изменить по своему усмотрению, потому что ее идентичность и воспроизводимость гарантированы наличием реального внешнего референта этой документации, а не ее собственной формой. Но хотя появление документации об искусстве предшествовало появлению интернета как медиума искусства, только возникновение последнего обеспечило документации об искусстве ее легитимное место.
Между тем институты культуры сами начали пользоваться интернетом как основным пространством своей саморепрезентации. Музеи размещают свои коллекции онлайн. И, разумеется, виртуальные хранилища изображений гораздо более компактны, а их поддержание обходится гораздо дешевле, чем традиционные художественные коллекции. В итоге музеи имеют возможность представить те части своих собраний, которые обычно хранятся в запасниках. То же самое можно сказать об издательствах, которые постоянно расширяют электронный компонент своих издательских программ. А также о
Таким образом, интернет ведет к глобализации автора. Я имею в виду здесь не автора как фиктивного субъекта, предположительно инвестировавшего в произведение свои интенции и значения, которые подлежат герменевтической дешифровке и раскрытию. Этот субъект уже неоднократно деконструировался и провозглашался мертвым. Я имею в виду реальную личность, существующую в
Конечно, писатели и художники, подобно прочим людям и организациям, пытаются избежать тотальной прозрачности путем создания изощренных систем паролей и защиты данных. Субъективность сегодня стала технической конструкцией: современного субъекта можно определить как обладателя определенного набора паролей, которые известны только ему. Современный субъект — это прежде всего хранитель секретов.
В
Так называемые контент-провайдеры часто жалуются, что их художественная продукция тонет в океане информации, циркулирующей в интернете, и в итоге остается невидимой. Действительно, интернет функционирует также как огромная мусорная яма, в которой больше исчезает, чем из нее возникает, — так что бо́льшая часть интернет-продукции так и не получает той доли публичного внимания, на которую рассчитывают ее авторы. В конечном счете все мы ищем в интернете информацию о том, что произошло с нашими друзьями и знакомыми. Мы выходим на определенные блоги и информационные сайты, просматриваем конкретные электронные журналы и игнорируем всё остальное. Так что стандартная траектория современного автора ведет не от локального к глобальному, а от глобального к локальному. Раньше репутация писателя или художника перерастала из локальной в глобальную: сначала автор должен был приобрести локальную известность, чтобы затем иметь возможность заявить о себе глобально. Сегодня мы начинаем с самоглобализации. Разместить свои тексты или художественные произведения в сети значит обратиться напрямую к глобальной аудитории, избежав всякого локального посредничества. Здесь личное становится глобальным, а глобальное — личным. В то же время интернет предлагает средства для измерения глобального успеха автора, поскольку представляет собой гигантскую машину уравнивания читателей и чтений. Он измеряет успех согласно правилу одного клика, одного прочтения (или просмотра). Но чтобы выжить в современной культуре, необходимо также привлечь внимание локальной аудитории к своей глобальной презентации — быть не только представленным глобально, но и известным локально.
Тут возникает более общий вопрос: кто является читателем или зрителем самого интернета? Им не может быть человек, потому что человеческий взгляд не способен охватить интернет в целом. Но им не может быть и Бог, ведь божественный взгляд бесконечен, а интернет конечен. Часто мы думаем об интернете как о бесконечном потоке информации, выходящем за рамки индивидуального контроля. Но на деле интернет — вовсе не пространство информационных потоков, а машина для их приостановки и обращения вспять. Медиумом интернета служит электричество, запасы которого ограничены. Следовательно, интернет не может быть основой для бесконечных потоков информации. Он работает на базе определенного количества кабелей, терминалов, компьютеров, мобильных телефонов и других единиц оборудования. Эффективность интернета основана именно на его конечности и, стало быть, обозримости, что подтверждают поисковые системы вроде Google.
Сегодня мы часто слышим об усилении надзора, осуществляемого главным образом через интернет. Но надзор не есть нечто внешнее по отношению к интернету или некое специфическое его применение.
Интернет по своей сути является машиной надзора.
Он делит поток информации на небольшие, видимые и обратимые операции и тем самым делает каждого пользователя доступным для наблюдения — реального или гипотетического. Взгляд, читающий интернет, — это взгляд алгоритмический. И по крайней мере потенциально этот алгоритмический взгляд может видеть и читать все данные, размещенные онлайн.
Что же означает эта исходная прозрачность для художников? Мне кажется, что реальной проблемой является не интернет как пространство распространения и выставления искусства, а интернет как рабочая среда. В традиционном, институциональном режиме искусство создавалось в одном месте — в мастерской художника или в кабинете писателя — и демонстрировалось в другом: в музее, галерее или напечатанной книге. Появление интернета стерло различие между производством и демонстрацией искусства. Процесс художественного производства в той мере, в какой в нем задействован интернет, выставлен напоказ с самого начала. Раньше только промышленные рабочие трудились под чужими взглядами, в условиях постоянного контроля, столь красноречиво описанного Мишелем Фуко. Писатели и художники работали уединенно — вне паноптического, публичного контроля. Но если так называемый творческий работник использует интернет, он подвергается надзору в той же, а то и в большей степени, чем рабочий в описании Фуко.

Результаты наблюдения продаются корпорациями, которые контролируют интернет, поскольку владеют средствами производства, материальной и технической базой интернета. Не следует забывать, что интернет находится в частной собственности и его владельцы получают прибыль в основном от адресной рекламы. Мы имеем дело с интересным феноменом: монетизацией герменевтики. Классическая герменевтика, искавшая автора под оболочкой произведения, была раскритикована теоретиками-структуралистами, представителями «внимательного чтения» и т. д., которые полагали бессмысленной погоню за секретами, недоступными по определению. Ныне эта старая, традиционная герменевтика возродилась как инструмент дополнительной экономической эксплуатации субъектов, действующих в интернете. Прибавочная стоимость, которую создает такой субъект и которая присваивается интернет-корпорациями, это стоимость герменевтическая: субъект не только осуществляет некие действия или создает некую продукцию в сети, но также обнаруживает себя как человеческое существо с определенными интересами, желаниями и потребностями. Монетизация классической герменевтики — один из наиболее любопытных процессов, с которыми мы столкнулись за последние несколько десятилетий.
На первый взгляд, художникам эта перманентная обозримость скорее на пользу, чем во вред. Кажется, что ресинхронизация производства и демонстрации искусства посредством интернета улучшает, а не ухудшает их положение. Ведь эта ресинхронизация означает, что художнику нет нужды создавать конечный продукт, завершенное произведение: документация процесса создания искусства уже является произведением искусства. Бальзаковский художник, который так и не смог представить публике свой шедевр, не имел бы никаких проблем в этих новых условиях: его шедевром стала бы документация усилий, направленных на создание этого шедевра. Интернет функционирует скорее как церковь, нежели как музей.
Ницше писал, что со смертью Бога мы утратили своего зрителя. Появление интернета вернуло нам этого универсального зрителя.
Кажется, мы возвращаемся в райское состояние и, подобно святым, выполняем нематериальную работу под божественным взглядом.
Ведь жизнь святого можно описать как блог, который читается Богом и сохраняется в целости даже после смерти этого святого.
Зачем же нам нужны какие-то секреты? Почему мы отвергаем радикальную прозрачность? Ответ на эти вопросы зависит от ответа на более фундаментальный вопрос: привел ли интернет к возвращению Бога или же злого гения с его дурным взглядом?
Я бы предположил, что интернет — это не рай, а скорее ад или, если угодно, рай и ад одновременно. Жан-Поль Сартр заметил, что ад — это другие, то есть жизнь под чужими взглядами. По его утверждению, взгляд другого объективирует нас и тем самым лишает возможности изменить то, что определяет нашу субъективность. Сартр описывал человеческую субъективность как проект, направленный в будущее, и, следовательно, как онтологически гарантированный секрет: ведь он не может быть раскрыт здесь и сейчас, а только в будущем. Другими словами, Сартр понимал человеческую субъективность как борьбу с идентичностью, которой ее наделяет общество. Это объясняет, почему он интерпретировал взгляд других как ад: этот взгляд напоминает нам, что мы проиграли битву и остались пленниками нашей социально кодифицированной идентичности.
Стало быть, мы пытаемся ненадолго ускользнуть от взгляда другого, чтобы иметь возможность в период уединения обнаружить наше подлинное «я» и затем предстать перед публикой в новой форме, в новом образе. Состояние временного отсутствия помогает нам осуществлять так называемый творческий процесс, — собственно, само это состояние и есть то, что мы называем творческим процессом. Андре Бретон приводит рассказ о французском поэте, который, отправляясь спать, вешал на двери табличку с надписью: «Поэт работает» [1] . Этот анекдот резюмирует традиционное понимание творческой работы: она является творческой, потому что осуществляется по ту сторону публичного контроля — и даже по ту сторону сознательного контроля со стороны самого автора. Период отсутствия мог продолжаться несколько дней, месяцев, лет, а то и всю жизнь. Предполагалось, что только по окончании этого периода автор представит свою работу (если она не была представлена при его жизни, то должна быть найдена посмертно среди его имущества), которая будет признана творческой в силу того, что возникла будто из ничего. Иначе говоря, творческая работа предполагает десинхронизацию между процессом создания и демонстрацией результата — созданной в итоге вещью. Творческая работа практикуется в параллельном времени уединения, втайне, так что возникает эффект неожиданности, когда время автора ресинхронизируется со временем публики. Вот почему художники традиционно стремились стать невидимыми. Дело не в том, что они совершили преступление или хранят грязные тайны, которые хотели бы спрятать от чужих глаз. Взгляд другого воспринимается нами как дурной взгляд не в тех случаях, когда он стремится проникнуть в наши тайны и сделать их прозрачными (такой взгляд нам скорее льстит), а когда он отказывает нам в обладании какими бы то ни было тайнами, когда сводит нас к тому, что он видит и регистрирует.
Художественная практика часто трактуется как индивидуальная и личная. Но что это значит? Индивидуальный субъект обычно понимается как отличный от других. Здесь же идет речь не столько об отличии от других, сколько об отличии от самого себя — о нежелании идентифицироваться согласно общим критериям идентификации. Действительно, параметры, определяющие нашу социально кодифицированную, номинальную идентичность, нам совершенно чужды. Мы не выбираем себе имена, не определяем дату и место своего рождения, большинство из нас не основали города, в которых мы живем, и не дали им названия, мы не выбираем своих родителей, национальность и расу. Все эти внешние параметры нашего существования не имеют для нас значения — не соотносятся с нашим субъективным самоощущением. Они указывают на то, как нас видят другие, но при этом совершенно нерелевантны для нашей внутренней, субъективной жизни.
Художники-модернисты снова и снова восставали против идентичностей, навязанных им другими — обществом, государством, школой, родителями, — во имя суверенной самоидентификации. Искусство модернизма было поиском подлинного «я». И вопрос не в том, реально ли это подлинное «я» или же оно представляет собой метафизическую фикцию.
Вопрос об идентичности — это вопрос не истины, а власти: кто имеет власть над моей идентичностью — общество или я?
И в более широком смысле: кто осуществляет контроль, суверенную власть над социальной таксономией, общественными механизмами идентификации: государственные институты или я? Это означает, что борьба против своей публичной личности и номинальной идентичности во имя суверенной личности или суверенной идентичности имеет также публичное, политическое измерение: ведь она направлена против доминирующих механизмов идентификации — господствующей социальной таксономии со всеми ее границами и иерархиями. Поэтому художники-модернисты всегда говорили: не смотрите на меня, смотрите на то, что я делаю, — это и есть мое подлинное «я». Позднее художники по большей части отказались от поиска скрытого подлинного «я», начав вместо этого использовать свои номинальные идентичности как некие реди-мейды и организуя сложные игры с ними. Но эта стратегия по-прежнему предполагает деидентификацию, отход от номинальной, социально кодифицированной идентичности в форме художественной реапроприации, трансформации и манипуляции. Модернизм был эпохой стремления к утопии, а утопическое ожидание есть надежда на то, что наш проект выявления или конструирования подлинного «я» будет успешным и получит общественное признание. Иначе говоря, индивидуальный проект поиска подлинного «я» приобретает политическое измерение. Художественный проект становится проектом революционным, нацеленным на тотальную трансформацию общества путем обнуления таксономий, которые определяют функционирование этого общества.
Отношение традиционных институтов культуры к этому утопическому желанию противоречиво. С одной стороны, эти институты дают художникам и писателям шанс выйти за пределы собственного времени со всеми его таксономиями и номинальными идентичностями. Музеи и другие архивы культуры обещают переправить произведение художника в будущее. Однако эти архивы нарушают свое обещание в момент его реализации. Произведение переправляется в будущее — но номинальная идентичность художника заново навязывается его произведению. Из музейного каталога мы узнаем имя, дату и место рождения, национальность этого художника — таксономические маркеры, которых он старался избежать. Поэтому модернистское искусство стремилось разрушить музеи и циркулировать без границ и контроля.

В период так называемого постмодерна этот поиск подлинного «я» и, соответственно, подлинного общества, в котором это «я» может проявиться, был провозглашен устаревшим. Поэтому мы обычно говорим о постмодерне как о постутопической эпохе. Но это не совсем верно. Постмодерн не отказался от борьбы против номинальной идентичности субъекта — более того, он ее даже радикализовал. У постмодерна была своя утопия — утопия добровольного растворения субъекта в бесконечных анонимных потоках энергии, желания или игры означающих. Вместо упразднения номинального, социального «я» путем открытия подлинного «я» художественными средствами теория постмодернистского искусства инвестировала свои надежды в полную утрату идентичности в процессе репродуцирования — другой стратегии, преследующей, однако, ту же самую цель. Прекрасным примером постмодернистской утопической эйфории по поводу идеи репродукции служит один фрагмент из книги Дагласа Кримпа «На руинах музея», опубликованной в 1993 году. В этой прославленной работе Кримп, ссылаясь на Беньямина, утверждает: «За счет техник репродуцирования постмодернистское искусство освобождается от ауры. Иллюзия творящего субъекта уступает место откровенному заимствованию, цитированию, накоплению и повторению уже существующих образов. Понятия оригинальности, подлинности и присутствия, принципиально важные для упорядоченного дискурса музея, оказались подорваны» [2]. Поток репродукций переполняет музей, и индивидуальная идентичность тонет в этом потоке. На некоторое время интернет стал экраном, на который проецировались эти утопические мечты постмодерна — мечты о растворении всех идентичностей в бесконечной игре означающих. Глобальная ризома заняла место коммунистического человечества.
Однако интернет оказался не пространством реализации, а скорее кладбищем постмодернистских утопий — подобно тому как музей стал кладбищем модернистских утопий.
В интернете каждое свободно плавающее означающее получает адрес. Более того, каждое изображение или текст имеют здесь не только свое уникальное место, но и уникальное время появления. Интернет регистрирует каждый момент, когда мы кликаем, лайкаем, дислайкаем или редактируем ту или иную информацию. Соответственно, дигитальное изображение нельзя просто скопировать (в отличие от аналогового, механически репродуцируемого): всякий раз оно заново инсценируется или исполняется. И каждое исполнение файла данных датируется и архивируется. Более того, каждый просмотр изображения или прочтение текста в интернете регистрируются и позволяют себя отследить.
В
Разумеется, мы рассуждаем об интернете в его нынешнем состоянии, которое, как я полагаю, принципиально изменится в ходе грядущих кибервойн. Эти войны уже объявлены, и они разрушат или по крайней мере серьезно повредят интернет как средство коммуникации и доминирующее пространство бизнеса и торговли. Современный мир очень похож на мир ХIХ столетия, определяющую роль в котором играли политика свободного рынка, растущий капитализм, культ знаменитостей, возвращение религии, терроризм и контртерроризм. Первая мировая война разрушила этот мир и сделала политику свободного рынка невозможной. К моменту ее окончания геополитические, военные интересы отдельных национальных государств оказались гораздо важнее экономических интересов тех же государств. Последовал долгий период войн и революций. Возможно, нечто подобное ждет и нас в ближайшем будущем.
Но я бы хотел закончить эту последнюю главу более общим размышлением об отношении между архивом и утопией. Как я попытался показать выше, утопический импульс всегда связан с желанием субъекта порвать со своей исторически предопределенной идентичностью, покинуть свое место в исторической таксономии. В известной мере архив дает субъекту надежду пережить свою эпоху и выявить в будущем свое подлинное «я», поскольку благодаря архиву созданные этим субъектом тексты и художественные произведения могут быть доступны после его смерти. Утопическое или, выражаясь языком Фуко, гетеротопическое обещание архива принципиально: оно позволяет субъекту выработать дистанцию и критическую позицию по отношению к собственной эпохе и современной ему публике.
Архивы часто интерпретируются всего лишь как средства консервации прошлого — экспонирования прошлого в настоящем. Но, что важнее, архивы являются одновременно машинами для транспортировки настоящего в будущее. Художники создают свои произведения не только для своей эпохи, но и для художественных архивов, то есть для будущего, в котором это произведение будет по-прежнему представлено. Отсюда разница между политикой и искусством. Художники и политики разделяют общее «здесь и сейчас» публичного пространства и в равной степени стремятся сформировать будущее, — это объединяет искусство и политику. Но политика и искусство формируют будущее по-разному. Политика понимает будущее как результат своих действий, осуществляемых здесь и сейчас. Политическое действие должно быть эффективным, результативным, трансформировать общественную жизнь. Другими словами, политическая практика формирует будущее, но исчезает в нем: она целиком поглощается собственными результатами и последствиями. Цель текущей политики состоит в том, чтобы исчезнуть и уступить место будущей политике. Но художники работают не только в пределах публичного пространства своей эпохи, но и для инородного пространства художественных архивов, где их произведения обретут место среди произведений прошлого и будущего. Искусство, каким оно было в эпоху модернизма и остается в наши дни, не исчезает после завершения работы. Произведение искусства сохраняется в будущем — и именно эта ожидаемая грядущая представленность искусства гарантирует его влияние на будущее, его шанс это будущее сформировать. Политика формирует будущее своим исчезновением, искусство же — своим постоянным присутствием. Это создает разрыв между искусством и политикой — разрыв, который не раз напоминал о себе в ходе трагической истории взаимоотношений между левым искусством и левой политикой в XX веке.
Безусловно, наши архивы организованы по историческому принципу, а наше обращение с ними по-прежнему определяется традицией историзма XIX столетия. После смерти художника мы обычно вписываем его обратно в исторический контекст, из которого он стремился ускользнуть. В этом смысле художественные коллекции, предшествовавшие историзму XIX века, — коллекции, которые служили, например, собраниями образцов чистой красоты, — кажутся наивными лишь на первый взгляд. На деле они более верны изначальному утопическому импульсу, чем их более изощренные историцистские аналоги. И, как мне кажется, сегодня мы испытываем растущий интерес к неисторицистскому подходу к нашему прошлому: к деконтекстуализации и реинсценировке отдельных явлений прошлого в противовес их исторической реконтекстуализации; к утопическим устремлениям, побуждавшим художников порвать с их историческими контекстами, в противовес этим самым контекстам. Возможно, самый интересный аспект интернет-архива состоит как раз в возможности деконтекстуализации и реконтекстуализации посредством операции копирования, которую интернет предлагает своим пользователям. И мне кажется, что это положительный процесс, поскольку он усиливает утопический потенциал архива и снижает возможность нарушения утопических обещаний — возможность, заложенную в любом архиве независимо от способа его организации.
Примечания
[1] Бретон А. Манифест сюрреализма / пер. Л. Андреева и Г. Косикова // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литера- туры XX века / сост., предисл., общ. ред. Л. Андреева. М.: Прогресс, 1986. С. 48.
[2] Кримп Д. На руинах музея / пер. с англ. И. Аксенова и К. Саркисова. М.: V-A-C press, 2015. С. 88 [перевод изменен. — Пер.].