Долг, который нас привлекает. Константино Эспозито
В издательстве «РИПОЛ классик» вышла книга «Современный нигилизм» Константино Эспозито, итальянского академика и преподавателя философии в Университете Бари. Эспозито рассматривает нигилизм как модель мышления, ставшую повседневной нормой, которая привела нас к молчаливой константе «нет ценностей и нет идеалов». Мы публикуем тринадцатую главу книги: о между индивидуальным и коллективным, между понятием «права» и «долга», а также о главном долге — быть собой.
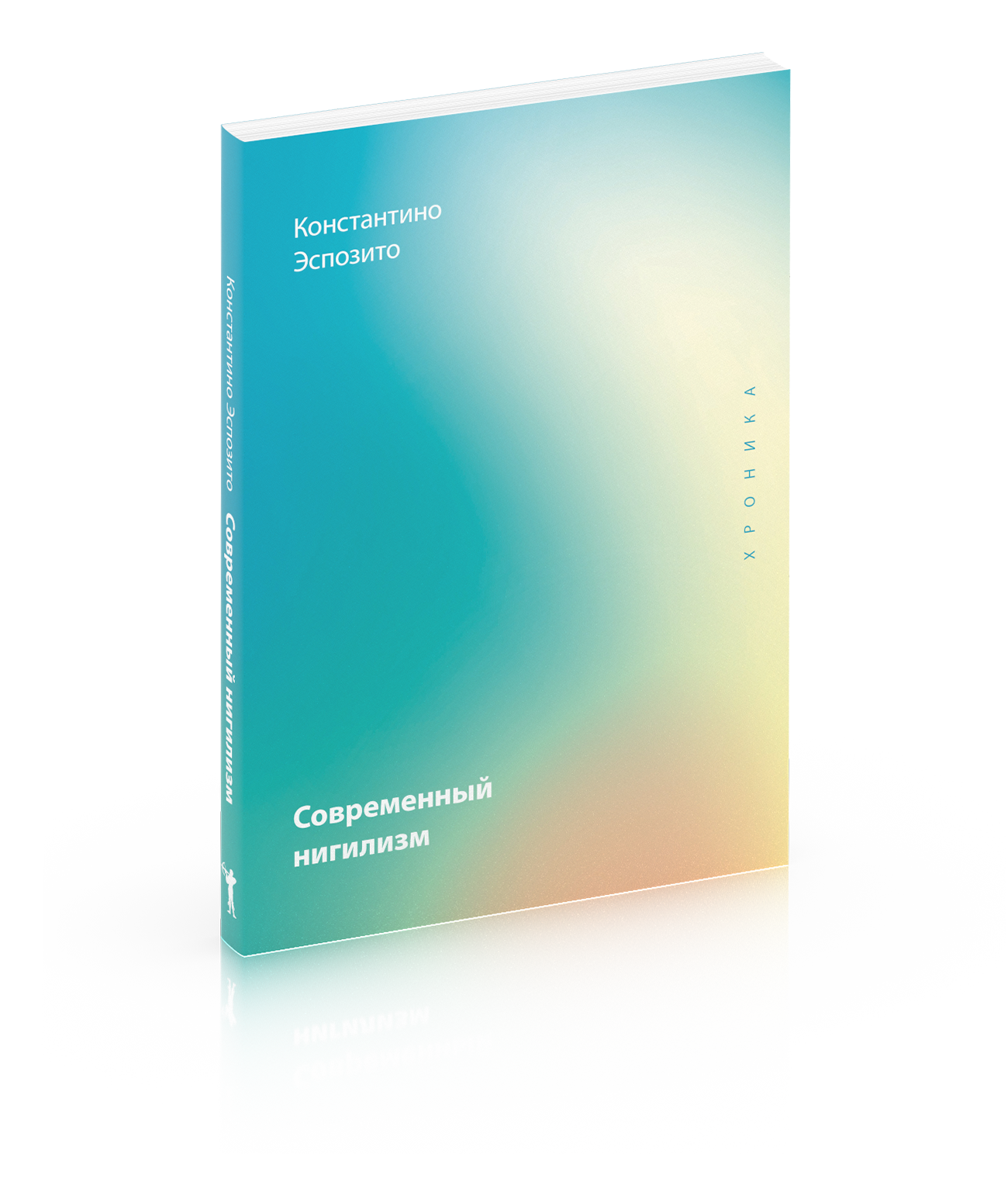
Одна из характерных черт общества повсеместного нигилизма — кризис общеизвестных обязанностей, то есть тех фундаментальных ценностей, с которыми в большей или меньшей степени связано сосуществование людей в рамках социума. Эту тревожную тенденцию в отношении обязанностей не совсем оправданно сейчас называют релятивизмом. Однако это не означает, что у людей больше не осталось ценностей, в которые можно было бы верить, или что они просто отказались от поиска смысла жизни, как, с легким раздражением, предполагает традиционалистская идеология. Самая сложная и самая интересная сторона усталости от нигилизма заключается в том, что человек перестает различать мотивы существования по их надындивидуальному характеру, универсальной идеальности, как было в другие эпохи, теперь эти ценности различаются по другому принципу: совпадают они или не совпадают с ожиданиями и желаниями самореализации индивидов.
И это уже не просто вопрос того, что великий социолог Макс Вебер после Первой мировой войны назвал «политеизмом ценностей». В эпоху «разочарования в мире», «в богочуждую, лишенную пророка эпоху» — как утверждал Вебер в работе «Наука как призвание и профессия», — различные ценности находятся в постоянном конфликте друг с другом, и каждый человек должен придерживаться этики ответственности, то есть сам отвечать за последствия своих действий. Но сегодня, в эпоху перехода от политеизма к релятивизму ценностей, нам кажется, что все повернулось вспять: фокус сместился не столько на обязанность каждого человека быть ответственным перед обществом, сколько на право каждого заставить общество признать свою потребность утвердиться как личность. Это придает самому термину «релятивизм» более правильное и точное значение: не отмена и релятивизация абсолютных принципов, а определенное воззрение на ценности отдельных людей, «имеющих к ним отношение». Ценности зависят от людей, а не люди от ценностей. И поэтому эпоха осознанного нигилизма мыслится уже не как эпоха обязанностей, а как эпоха прав.
Как и в случае любой культурной поляризации, упускающей из виду весь накопленный опыт, это повлекло за собой значительные проблемы в определении концепции, и они становились все более заметными с конца шестидесятых годов и вплоть до наших дней. Упомяну только две знаковые проблемы. Первая относится к
Но, как это часто бывает, острее всего мы воспринимаем вопросы второго порядка — философские или даже «метафизические». Самая очевидная проблема заключается в следующем: мы больше не думаем о «Я», о конкретных «субъектах» из плоти и крови, которым присущи права, а мы думаем о правах, которые сами порождают субъектов. Утверждение, что законы государства могут гарантировать в целом неограниченные права отдельным категориям лиц, ведет к идее, что именно эта правовая защита определяет реальность лиц, которые из-влекают из нее выгоду. Мы исходим не из фактов, а из закона. Для того, чтобы реализовать и признать собственное бытие, требуются не личные впечатления, а юридическое признание, оно становится источником бытия человека.
Наиболее важным культурным и политическим результатом всего этого является своеобразное дробление фундаментальных мотивов социальной общности, возникающее не из
Однако давайте посмотрим правде в глаза: «право» — очень привлекательный термин, в отличие от навевающего тоску «долга». Даже говоря обычным языком, долг — это то, что мы обязаны выполнять вопреки собственному желанию и естеству. Давайте задумаемся над этим: зафиксированное словарями значение слова ведет нас туда, куда мы бы с радостью никогда не отправились, чтобы не чувствовать себя обязанными, обремененными и в итоге вынужденными туда идти. Но почему?
«Так говорил Заратустра» Ницше — произведение об одном из самых необычных «метаморфозов» человеческого духа в поисках освобождения; обратимся к сюжету борьбы льва с драконом. «Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? „Ты должен“ называется великий дракон. Но дух льва говорит „я хочу“. Чешуйчатый зверь „ты должен“, искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, „ты должен!“» («Так говорил Заратустра», глава «О трех превращениях»).
Нигилизм — это в некотором роде несостоятельность Канта, кантовского долга, не имеющего никакой другой мотивации, кроме как навязываться самому себе. Почему нужно следовать долгу? Единственный ответ: потому что так надо, то есть потому, что так повелел универсальный разум, присутствующий в каждом индивиде. Для Канта это самое главное из существующего в человеке, достойное восхищения и «уважения»: его чистая свобода следовать нравственному закону. Абсолютная и безусловная самоцель. Все остальные вещи создаются как средство достижения каких-то целей или являются результатом деятельности каких-то механизмов. Чисто только то, что присуще человеку, и таковым должно оставаться, иначе сам человек потеряет свое человеческое естество.
Как же случилось, что настолько возвышенное чувство подверглось нападкам со стороны нигилистского льва? Возможно, Ницше в своей полемической ярости против проклятого дракона долга, пожирающего жизнь во имя абстрактных ценностей, не до конца понимал проблему, что нигилизм уже проник под чешую огромной рептилии. Фактически, чтобы возвысить человека до существа бескорыстного, подобного чистому нравственному закону, нужно отделить его от того, чем человек «является» в действительности, и спроецировать в сферу невообразимого «должно быть». Рациональный человек «может» реализовать себя, он способен воплотить в жизнь свою добродетель собственными силами, опираясь только на свою моральную стойкость просто потому, что «он должен» это сделать. Но таким образом человек, который есть, в итоге уступает место человеку, которым он должен быть.
Шарль Пеги однажды написал, что «человек, сформированный кантианской этикой долга, или, более образно, „кантизмом“, имеет чистые руки, но, грубо говоря, на самом деле рук у него нет [a les mains pures, mais il n’a pas de mains]. А нам, с нашими мозолистыми руками, нашими узловатыми руками, нашими греховными руками, нам иногда рук не хватает». Такая концепция долга не помогает ничего уловить, и на самом деле добродетельный человек должен умерщвлять даже самое трепетное свое желание, в том числе и желание счастья, свой особый, «личный» интерес. Потому что никто не может быть счастлив, оказавшись на моем месте. Высшее желание — это только то, что направлено на обретение добродетели, то есть на то, чтобы стать достойным счастья. Но именно здесь кроется проблема, зародившаяся сперва у Канта, а потом перешедшая и в нигилизм. Это происходит
В этой точке проблема долга частично пересекается с проблемой нигилизма, что делает бесполезной любую попытку преодолеть нигилизм через обновление этики обязанностей. И вовсе не потому, что последние не важны или не необходимы, а просто потому, что у них больше нет убедительной силы. Они каким-то образом уже проиграли битву, прежде чем вступить в нее. Обязанности теперь и в самом деле лишились своего очарования.
По этой причине стоит повторить простой вопрос, который обычно не берут во внимание: каким образом формируются обязанности не только в жизни отдельного человека, но и в долгой истории нашей культуры? Для всех нас, наследников Канта (даже если мы являемся антикантианцами!), долг прежде всего мыслится как усилие воли, которое нужно для того, чтобы «выполнить» определенное обязательство. Но если мы присмотримся к этой проблеме внимательнее с позиции собственного опыта, то сможем понять, что долг на самом деле проистекает из источника, предшествующего нашим моральным обязательствам.
Долг словно предупреждает, когда что-то или кто-то зовет нас, будь то Яхве на горе Синай, или голос нашей совести, или момент реальности, который поражает, захватывает нас и заставляет двигаться дальше. И признание того факта, что мы слышим призыв долга, совпадает с нашим самоопределением — «вот он я». Как если бы мы говорили: «Это меня интересует», «Это все для меня». Долг не рождается нашим стремлением достигнуть какой-то высокой и далекой цели, он, скорее, привлекает нас к ней, даже очаровывает. Этот призыв бросает нам вызов, пробуждает, делает нас лучше.
Давайте подумаем о ребенке или вспомним собственное детство: каким образом можно научиться долгу? Родители навязывают это понимание? Но в таком случае самоконтроль бы переходил от «Я» ребенка к «Сверх-Я» родителя, а обучение долгу чаще всего означало бы появление на свет безвольных или невротичных детей. Можно сказать, что ребенок учится долгу, когда родители подают ему пример. Но родители могут ошибаться, и как быть в этом случае? Какое разочарование видеть, что родитель совершает ошибку и ставит под угрозу ценности, которым учит. Или, может, долг возникает из отношений ребенка с родителями, — даже если они совершают ошибки, — то есть из того простого факта, что «мне будет жаль, если я заставлю маму плакать» или «я делаю это, потому что мне хочется заслужить ее любовь». Понятно, что таким образом мы переходим на уровень, где ценности не осознаются, и потому мы как рационалисты готовы сразу же отвергнуть этот источник ценностей, потому что это «детская» формула, не подходящая взрослым, ответственным и рациональным людям.
И все же этот пример создает своеобразную структурную основу долга, не только начальную или незрелую, но и вполне постоянную. Мы знаем, что эта ценность сама по себе достойна уважения — и по этой причине мы можем и должны ее универсализировать, — ведь она время от времени возвращается к нам в виде неувядающего воспоминания о недовольстве матери: меньше всего на свете нам бы хотелось ее расстроить, мы хотим оправдать ее привязанность к нам. Это не значит, что нужно всю жизнь испытывать сентиментальную привязанность к детству, наоборот, это возможность вырасти яркими личностями, чтобы воспринимать долг как полное любви приглашение быть самими собой: так же, как любящие нас не требуют от нас стать другими.
Это очень простой и даже банальный пример ежедневной феноменологии воспитания долга имеет свой вес в истории нашей культуры. Люди не сами производили эти ценности, они усваивали их как исторический опыт, потому что каждый человек является частью какой-то компании, посещает какие-то места, соответствует определенным общественным установкам, воспитывается кем-то — и затем мало-помалу понимает, что это того стоило, осознает рациональность полученного опыта. Великий просветитель Лессинг в своей знаменитой работе «Воспитание человеческого рода» (1780) вновь провоцирует нас, когда говорит, что в начале времен людям нужно было испытывать страх, чтобы научиться долгу. От азиатского политеизма они перешли к заповедям Моисея и еврейской истории с ее ужасным и ревнивым Богом, который повелевал и карал, но это был важный шаг в воспитании человечества. Затем пришел Иисус, который учил любви и подал пример того, что значит следовать воле Отца. И теперь, когда человечество оказалось в нашем времени, начавшемся в XVIII веке, времени Лессинга, — учиться больше не нужно, потому что мы повзрослели, и теперь разум может генерировать собственные ценности. Сам по себе.
Нигилизм помогает нам обнажить фантастическую незавершенность грандиозного рационалистического проекта Лессинга. Человечество утратило те ценности, которые должно было обрести в самом себе, и мы еще не завершили обучение, оно нам только предстоит. Источник долга сейчас — это одновременно привлекательность и причастность, это преемственность и общность.
Чарльз Тейлор, один из самых чутких к кризису современного индивидуализма философов, писал на эту тему:
«Если подлинность означает верность самим себе, восстановление нашего своеобразного „ощущения бытия“ [выражение, используемое Руссо для обозначения самого близкого контакта с самими собой], то, возможно, мы сможем полностью осознать это, только если признаем, что это чувство связывает нас с куда большей целостностью [connect us to a wider whole]. <…> Возможно, потерю чувства принадлежности
Потому что общество — это, по сути, реальность, обучающая нас самому главному долгу, который только может быть у человека, заставляющая нас чувствовать его «своим» в полном смысле этого слова: это долг быть самими собой.