Этнография рабочего места и солидарность ломающихся машин
Фигура рабочего в современной России окружена множеством стереотипов. Кажется, что либо они занимаются исключительно монотонным и обезличенным трудом, либо их давно уже вытеснили роботы. Ольга Пинчук — независимая исследовательница и социолог — в течение года трудилась на конфетной фабрике в Подмосковье в качестве оператора упаковки 1-го разряда, описывая все происходящее с ней на производстве. Цель ее исследования «Этнография рабочего места» — проработать расхожие стереотипы о рабочих и позволить нам объективно взглянуть на то, что представляет из себя заводская материальность России.
В интервью Константину Корягину Ольга рассказала о главных находках, трудности работы в поле, своей исследовательской траектории и том, почему так важно рефлексировать собственную биографию, занимаясь социальными науками. Иллюстрации — Даны Марасиновой.
Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.
И не забывайте подписываться на наш инстаграм!
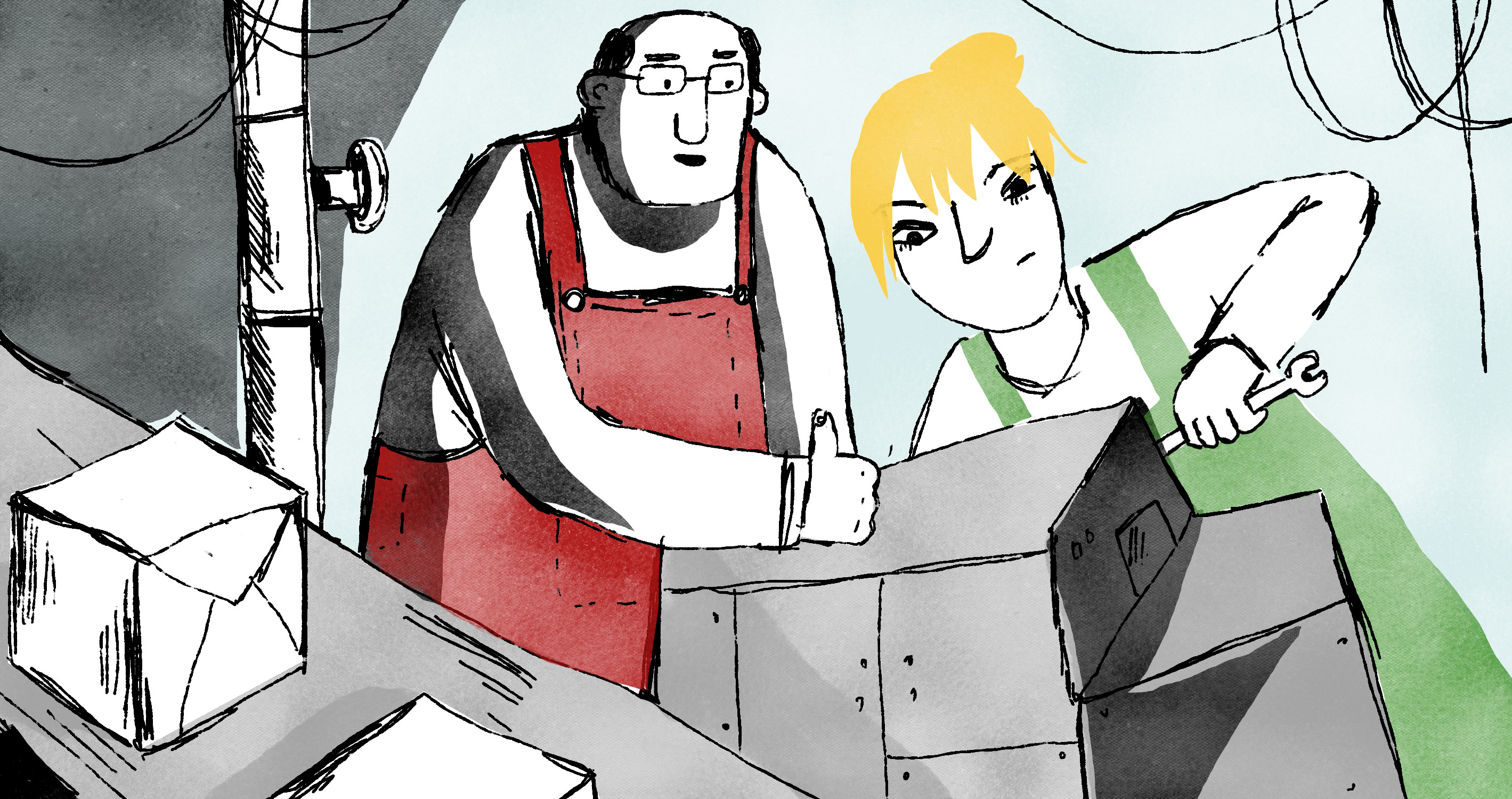
Исследование: поломка как новая норма
В своем исследовании я изучала то, как рабочие взаимодействуют с заводской материальностью и как все, что фреймирует их работу — от машин до разметки на полу, — определяет социальность на производстве. Важно при этом, что на заводе абсолютно изношено оборудование, формально считающееся полностью автоматизированным. Все регламенты, которые используют управляющие, исходят из того, что машины отлажены, что их оператор, то есть рабочий — это человек, который только контролирует механизмы, а не занимается их постоянной починкой. По факту же заводская материальность находится в таком плачевном состоянии, что противоречит всем этим правилам и даже вступает с ними в конфликт.
В странах, где оплата труда ниже средних мировых показателей, дешевле нанять на производство армию вахтовых или даже квалифицированных работников, чем обновлять оборудование. Предприятие, где я занималась исследованием, является частью международного концерна, и российская фабрика — одна из немногих, может быть, наряду только с китайской и гватемальской, где оборудование находится в таком состоянии. Остальные фабрики, например, в США или Австралии, — это полностью автоматизированные производства, где будущее действительно наступило. Там, условно, работают двое рабочих: один нажимает на кнопку в начале конвейера, другой нажимает на кнопку в конце.
Нередко можно услышать, что машины заменяют рабочих. Здесь же обратная ситуация: машины износились до такой степени, что потребовались уже не только рабочие, которые раньше выполняли те же действия вручную, но и те, кто это сломанное оборудование теперь обслуживает. И штат — как на уровне линейного руководства в цехе, так и на уровне рабочих разных квалификаций — раздулся неимоверно.
Долгое время на фабрике, еще до того, как я стала там работать, была следующая ситуация: несмотря на то, что ее топ-менеджеры были в основном иностранцами, воспитанными в духе неолиберальной традиции управления, начальники самого производства придерживались советской, патерналистской культуры. Отношения внутри бригады строились не только на функциональном взаимодействии — подчинении одного другим,– но и на солидаризации вокруг начальников производства, которые были «из своих», могли сами отстоять смену и знали производство. Цитата моей коллеги: «Мы спокойно работали, знали, куда встанем, организовывали свои рабочие места. Пришли, поработали, поменялись на обед, ушли». Размеренная темпоральность определяла жизнь людей. Это наложилось на хорошо работающее оборудование: в тот момент поломка машины ломала еще и повседневность труда.
Незадолго до того, как я пришла на завод, старое руководство уволили. Первые шаги новой начальницы, которая оказалась тем самым менеджером «нового типа», заключались в том, что она сократила часть механиков и рабочих как «сидевших без дела», а также распорядилась увеличить скорость производства. Используемые машины были списаны с иностранного завода, и механики вполне определенно сказали начальнице, что увеличение мощностей усугубит ситуацию. В итоге эта оптимизация привела к тому, что машины быстро износились, людей на их починку стало не хватать, а социальный разрыв между рабочими и менеджерами максимально усилился. Шоковые изменения стали стимулом к пересборке внутренних правил на производстве, сама социальность заработала по-новому.
Все заводские практики — восприятие ритма и режима труда, взаимодействие на рабочем месте, — подстроены под то, что оборудование не работает
В этой логике я и пытаюсь выстроить свою книгу. Первый тезис заключается в том, что реальная материальность противоречит писанным правилам. Второй — в том, поломка оборудования стала новой нормой, в которой рабочий присутствует постоянно и вполне уже к ней адаптировался. Можно сказать, что все заводские практики — восприятие ритма и режима труда, взаимодействие на рабочем месте, — подстроены под то, что оборудование не работает.
Такая ситуация в первую очередь влияет на разделение труда внутри производства. Когда оборудование работает хорошо, функции оператора и технического персонала очевидны. Технический персонал ходит с отвертками, шестигранниками, их вызывают, если вдруг что-то случилось. А оператор стоит на рабочем месте, меняет упаковку, включает-выключает машины. Но когда оборудование сильно изнашивается, функции, которые до этого должен был выполнять только технический персонал, берет на себя оператор. Зачастую уже механики говорят: «Пойди, подкрути там, и всё нормально будет, ты же знаешь, как всё сделать, что я буду к тебе ходить».
Спустя несколько месяцев постоянного отлаживания оборудования с помощью разных маневров в одну из смен моя машина начала работать практически идеально. И мне пришлось искать новые формы деятельности, потому что все, включая коллег и руководство, привыкли к тому, что рабочий должен постоянно двигаться. Если он ничего не делает, то, значит, сидит без дела. То, что условно можно было назвать починкой или ремонтом инфраструктуры, оказывается твоей основной работой. Инфраструктура должна быть немного сломана, чтобы тебя удостоверяли как рабочего.

Такая ситуация производит новую иерархию, в первую очередь неформальную, которая определяет статус рабочего в коллективе. В этих условиях хороший оператор — это тот, кто обладает нужными качествами для успешной наладки оборудования из смены в смену. Происходит мистификация навыков и самих машин. Подошла, погладила по корпусу, сказала: «Миленькая, давай работай, пожалуйста». И все как будто заработало лучше. В разговорах внутри коллектива можно услышать: «Я встала после Маши и у меня всё работает, а пришла Таня меня заменить, и после неё всё полетело». Рационального понимания того, каким образом нужно настраивать изношенные машины, нет. Формализовать это невозможно, каждый раз приходится полагаться на логику и смекалку. Возможно, это прозвучит претенциозно, но такая сломанная материальность парадоксальным образом ведет к возникновению у рабочего новой виртуозности, так как его функции перестают сводиться лишь к монотонному нажатию на кнопки или смене упаковочного материала, а включают в себя элемент пусть и очень специфического, но творчества. У труда появляется элемент нематериальности.
Уже на первом этапе работы в поле, когда я была помощником разных операторов в своей бригаде, я заметила, что о серьезных поломках, которые ставят под угрозу здоровье, линейное руководство не знает. Например, у нас не отключался нагревательный элемент, и при чистке машины оператор часто обжигался — я сама несколько раз участвовала в этом мазохистском действии, и у меня все руки были в ожогах. Я попыталась узнать у коллег по бригаде почему никто не сообщит руководству — в первую очередь мастеру цеха. Коллеги по бригаде отвечали: «Все всё знают! Никому ничего не надо!». Но потом я поняла, что мастер про эту поломку ничего не знал даже, ему просто не сообщили. Потому что привычка к поломкам настолько устойчива, а чувство пропасти между цехом и начальством настолько сильное, что так все и работали дальше.
Поломка инфраструктуры — это точка солидаризации внутри группы, то, вокруг чего выстраивается групповая идентичность и идентичность отдельного рабочего в ситуации отсутствия какой-либо корпоративной культуры и идеологии
Я решила попробовать как-то изменить эту ситуацию и узнала, что руководству можно писать письма. Это так и называлось — «письма начальству». В тот момент начальником производства была женщина, которая очень любила, когда рабочие что-то читали, занимались самообразованием. Особенно ей нравилось, когда они писали ей из цеха письма. Но этим, естественно, никто не занимался, потому что формальный язык, на котором менеджеры общаются друг с другом по работе — «с уважением», «всем счастья», «до свиданья», — совершенно чужд и не нужен человеку, работающему в цехе. У него просто нет времени на подобные любезности. У меня, безусловно, какие-то навыки написания подобных текстов были, и я стала писать за всех эти письма. Делая это в первую очередь как рабочий, который хочет улучшить условия своего труда, а не как исследователь, ставящий научный эксперимент.
По началу коллеги относились к моей деятельности недоверчиво и, когда просили меня о
Насколько я знаю, после того, как я оттуда уволилась, эта система разрушилась, и все вернулось на круги своя. Почему это произошло? Почему изначально, ругая руководство и постоянно обсуждая все эти поломки, рабочие не пытались это исправить? Я против расхожих неолиберальных интерпретаций, подразумевающих их бездеятельность, аполитичность и смирение. Я думаю, что дело не в этом. Имея опыт общения с коллегами по бригаде вне завода, я знаю, что многие из них обладают активной жизненной позицией. Моя гипотеза заключается в том, что поломка заводской инфраструктуры — это точка солидаризации внутри группы, то, вокруг чего выстраивается групповая идентичность и идентичность отдельного рабочего в ситуации отсутствия какой-либо корпоративной культуры и идеологии. Желание поменять что-то черпает свою силу из образа конечной цели, а в данном случае ее нет. В данном случае все оказываются братьями и сестрами по беде. Так, основной темой для разговоров между рабочими всегда были не сплетни и не последние новости, а состояние машин. В курилке все рассказывают о том, у кого какое оборудование сломалось, хаят руководство, хаят механика, хаят коллегу из другой смены, которая оставила машину сломанной. Это фатическая коммуникация, главный смысл которой заключается в самой коммуникации, а не в стимулировании какого-либо действия.

Поле: уловки, трудности, паранойя
Изначально я была уверена, что нет смысла приходить к руководителю частного предприятия и говорить: «Я инициативный исследователь, возьмите меня на работу». Поэтому составила резюме на headhunter — указала, что хорошо владею английским, имею бакалаврское образование и трудилась вне академии. Завод, на который я в итоге пошла работать, не был выбран целенаправленно, все произошло достаточно стремительно и по большей части случайно: на собеседовании начальнице производства понравилось, что у меня есть высшее образование. Я устроилась туда 1 августа 2016 года, прошла медосмотр, получила медкнижку и сразу приступила к работе. Уже на первой неделе старшая смены обратила на меня внимание и предложила учиться на оператора 1-го разряда. Я согласилась, через три месяца сдала экзамен по упаковке и стала работать на машине сама.
Сначала моя бригада работала по графику «пять через два», включавшему три смены по восемь часов. Первая смена работала с утра до обеда, вторая — с обеда до позднего вечера, третья — с позднего вечера до раннего утра. Сменами мы менялись каждую неделю. Первая неделя была ночной, и это был самый жесткий опыт работы в моей жизни. Спустя полгода нашу линию перевели на другой график — «два через два». Я работала два дня подряд по двенадцать часов, потом отдыхала два дня, потом две ночи по двенадцать часов. В общем, график был очень тяжелым, и именно
Когда я устраивалась на завод, никто не знал, что я исследовательница, поэтому с самого начала, с самого первого дня я делала все то же самое, что и любой другой рабочий. Я работала в женском цехе упаковки, поэтому большая часть людей, с которыми я там взаимодействовала и практики работы которых наблюдала, были женщинами. Может, это не репрезентативно, но, общаясь с работницами завода, я заметила, что те, кому моложе 30 лет, как правило, оказались здесь
Через месяц работы я подружилась с женщиной из другой смены. Мы стали хорошо общаться, и я скоро рассказала ей о том, чем на самом деле занимаюсь. Она, как принято говорить в социальных науках, стала моим ключевым информантом и вызвалась быть моим проводником в мир заводского труда. С началом нашей дружбы я поняла, что мое поле начинается не с входа на завод, а находится буквально везде. Мы встречались вне работы, коллеги по бригаде приходили ко мне домой, а я — к ним. Довольно быстро контакты с коллегами по заводу вытеснили все остальные мои связи, и когда мы собрались дома у одной из работниц на новогодний корпоратив, я всем рассказала, чем занимаюсь на самом деле. Реакция была очень позитивной.
Мне кажется очень важным, что я смогла прочувствовать на себе заводской труд в таком режиме, но мое здоровье просто не выдержало этого графика
Комнату я сняла себе недалеко от завода в большом трехэтажном коттедже. Там, как в «Титанике», на третьем этаже располагались просторные и дорогие квартиры, на втором — квартиры поменьше, на первом находились отдельные комнаты. Я же жила на цокольном этаже с окошком под потолком. По стенам я расклеила советские плакаты с рабочими, собственноручно нарисованные схемы и конспекты — все это в полумраке маленького окошка напоминало какую-то тайную штаб-квартиру.
По странному стечению обстоятельств в начале весны на третий этаж того же коттеджа, где я снимала свою комнату, поселился начальник службы безопасности нашего завода. У него были очень широкие полномочия, и он занимался вопросами не только физической, но и социальной безопасности: следил за климатом на производстве, отвечал за то, чтобы в коллективе не было конфликтов, вел занятия по корпоративной этике. Все это напоминало детективную историю: я заезжаю на парковку, вижу, как он выходит из коттеджа, где я живу, проходит прямо мимо меня, садится в свою машину и уезжает. Я очень сильно запаниковала, подумала, что он, скорее всего, в сговоре с хозяином дома и уже обыскал мою комнату. Я выстроила целую сеть наблюдения за ним, моя подруга завуалированно узнавала у него причины переезда. В итоге все оказалось довольно прозаично: ему было далеко ездить каждый день домой, и он решил на неделе спать в коттедже, а на выходные приезжать к семье. Понятно, что страх был иррациональным — кому я была нужна, чтобы меня выслеживать, — но когда ты в поле почти год, появляется паранойя. Я инициировала знакомство, сама рассказала ему, что занимаюсь исследованием и впоследствии очень много от него узнала и про кадровые вопросы, и про те конфликты, с которыми он сталкивается на производстве, и про его представления о корпорации.
На заводе я проработала ровно год — с 1 августа 2016 по 7 августа 2017 года. Такая длительность считается необходимым минимум в этнографической работе, но не могу сказать, что у меня были временные ограничения. Да и уволилась я далеко не потому, что почувствовала пресыщение — будь моя воля, я бы там работала, наверное, еще год или два. Но ночные смены и заводской ритм труда сильно выбивают из колеи, учитывая, что в течении смены рабочий практически никогда не сидит, а постоянно бегает и

Траектория: тупик академии и полевые приключения
Моя исследовательская траектория необычна, а базовое высшее образование — далеко не самое лучшее. В 2007 году я пыталась поступить на соцфак МГУ, но мне не хватило баллов, поэтому прямо в приемной комиссии мне предложили подать документы в Международную aкадемию бизнеса и управления — частный вуз бывшего декана того же соцфака Владимира Добренькова. Отлаженная система. Какой-то практической пользы это образование мне не принесло, там был один преподаватель на множество предметов, но появилось желание заниматься социологией профессионально.
В 2011 году я защитила бакалаврский диплом и стала думать, что делать дальше. Вариантов оплачивать обучение у меня не было, а про Вышку, Европейский или Шанинку я тогда еще не слышала. В итоге меня взяли на бюджет в магистратуру МПГУ. Вся наша кафедра, если можно так выразиться, была занесена пылью, читать современные теоретические тексты, тем более на английском, там было не принято. Но мне очень повезло с научным руководителем — Тимуром Рифатовичем Миняжевым, который стимулировал мой интерес к социальной теории и чтению научных статей на языке оригинала. В 2013 я с отличием защитилась, и меня рекомендовали в аспирантуру в том же университете.
Уже с первых месяцев стало понятно, что все происходящее в университете было формальностью
Спустя короткое время после начала учебы там я стала разочаровываться. Несмотря на то, что я не читала каких-то обширных академических этнографических текстов, у меня было представление о том, чем я хочу заниматься. Это должна была быть полевая работа, включающая самостоятельный сбор данных и написание на их основе статей, которые бы обладали актуальностью хотя бы по причине новизны описанного в них материала. Когда я шла в аспирантуру, то ожидала, что именно здесь начнется та самая активная исследовательская жизнь, но уже с первых месяцев стало понятно, что все происходящее в университете было формальностью. Никакого включения в академическую среду, никакой живой научной работы, а постоянное «сиди в библиотеке, пиши диссертацию, напишешь и дальше делай, что хочешь». Я потеряла всякую мотивацию там защищаться, понимала, что мне будет стыдно за такую степень кандидата, и я потом всю оставшуюся жизнь буду скрывать тот факт, что она у меня есть.
Совершенно случайно я наткнулась на объявление о том, что Центр независимых социологических исследований принимает заявки на участие в «Школе пишущего исследователя» в
Благодаря новым контактам в академической среде в начале весны 2016 года я узнала о том, что Лаборатория методологии социальных исследований Дмитрия Михайловича Рогозина в РАНХиГС объявила о наборе исследователей на полевую практику. По ее результатам меня пригласили на должность младшего научного сотрудника. Наконец-то я попала туда, куда должна была попасть со всеми своими желаниями! Меня окружали настоящие полевики, люди, которые могут уехать куда-нибудь в деревню на север и по восемь часов в день ходить от дома к дому и брать интервью у местных жителей. Я была готова участвовать во всех проектах лаборатории, и мне жутко повезло, что как раз тогда им нужно было сделать полевое исследование в Башкортостане — понять, что с рабочими вредных производств происходит на пенсии и в предпенсионные годы. Экспедиция была рассчитана на три недели, и я первая вызвалась, еще даже не зная, что нужно будет делать. Там, в маленьком шахтёрском посёлке с населением в 3000 человек, у меня случились первые «полевые приключения». Руководство предприятия не хотело, чтобы мы лично разговаривали с шахтерами. Тогда я организовала целую сеть информантов, которые помогали мне общаться с ними в тайне. Мы несколько раз выезжали за пределы поселка в чистое поле, чтобы не дай бог информанта не увидели со мной и не уволили. Когда приехали коллеги, оказалось, что к жителям поселка можно просто приходить домой, стучать в дверь и они часто с радостью с тобой разговаривают, отвечая вопросы. Но я тогда не искала легкий путей. По возвращении в Москву мне дали большую премию — таким было триумфальное начало моей настоящей академической карьеры.

Метод: автоэтнография и саморефлексия
Летом 2016 года мы с коллегами решили делать проект, который методически был бы оформлен как включенное наблюдение. Началось все с моей инициативы поработать на заводе. Я хотела на личном опыте понять, что значит быть рабочим и как устроен труд, в частности его традиционная, индустриальная форма. Почему? Наверное, отчасти потому, что я выросла в провинции и меня всегда больше интересовала жизнь в небольших населенных пунктах, отчасти
Я решила сфокусироваться на автоэтнографических методах исследования — подробно описывать в дневниках все, что увижу, а также свои мысли, чувства и впечатления по этому поводу. Мы планировали, что это будет «коллаборативная этнография». Я была в поле 24/7 и раз в пару неделю возвращалась в Москву в лабораторию обсуждать с коллегами мои записи. То есть, я должна была стать ретранслятором, который приносит в лабораторию материал для дальнейшего коллективного анализа. Первые несколько месяцев я действительно делилась всеми своими записями, но потом появились этические барьеры, не позволяющие мне делиться большей частью материала. Мы продолжали встречаться, обсуждать поле, что-то писать и читать, но дневники свои я уже показывала избирательно.
Важная часть автоэтнографического метода — это наличие собственного голоса, саморефлексия, стремление понять, в рамках каких идеологических установок автор находится
В антропологии нет и не может быть научной, математической объективности. Если два исследователя пойдут в одно и то же поле, у них будут абсолютно разные дневники, суждения, мысли, выводы, впечатления. Поэтому важная часть автоэтнографического метода — это наличие собственного голоса, саморефлексия, стремление понять, в рамках каких идеологических установок автор находится. Научный вес работе добавляет описание собственной биографии, как личной, так и профессиональной. Особенно важен в этом смысле авторский список благодарностей, где написаны фамилии твоих ближайших коллег и наставников. Все это нужно для того, чтобы читатель понимал из какой перспективы исследователь интерпретирует собранный материал. В общем, первое условие объективности здесь — это признание собственной необъективности и указание на то, в каких местах и почему ты можешь быть не объективен. Второе условие — это откровенный рассказ о самом материале, процессе его сбора и обработки. Если ты делал кейс-стади, то как именно? Если ты брал интервью, то как они проходили, как ты искал информантов, как вы разговаривали, какой была обстановка? Здесь важен не только период нахождения в поле, но и период работы с собранными данными.
Когда я читаю исследовательские тексты на русском, мне очень не хватает информации про личность исследователя и процесс сбора данных, чтобы я могла понять, откуда этот человек и на чём он основывается. Часто разные важные подробности исследования узнаешь уже из личных бесед, и я не понимаю, почему им не нашлось места в тексте. Многие оценивают это как самодискредитацию: мол, раз ты обо всем этом рассказываешь, значит, тебе нельзя доверять и вообще ты не объективный исследователь. Меня это волнует в последнюю очередь, потому что благодаря такой информации исследователям легче понять, смогут ли они работать с подобным материалом, если, например, занимаются похожей темой. Поэтому в книге, над которой я работаю сейчас, будет отдельный раздел про этику, про то, с чем я сталкивалась за время исследования и какое это оказало влияние на траекторию моих размышлений.
Мне хотелось бы поблагодарить за поддержку в проведении исследования фонд «Хамовники» и фонд Генриха Белля. Коллег по Лаборатория методологии социальных исследований за то, что поддержали идею и помогли реализовать. А также многочисленных коллег, проявивших интерес к проекту, и помогающих по сей день в работе над книгой (лишь некоторые из них: Олег Журавлев, Виктор Воронков, Николай Ссорин-Чайков, Нурия Фатыхова, Сергей Мохов и др.)
* * *

Подробно об исследовании, которое было поддержано фондом «Хамовники» на этапе полевой работы и фондом им. Генриха Бёлля на этапе работы с материалами, можно прочитать по ссылке. Сейчас, помимо написания книги по его результатам, Ольга учится в аспирантуре Департамента истории НИУ ВШЭ в
Связаться с Ольгой можно в фейсбуке или по электронной почте.