Как давать вещам случаться?
Продолжение дискуссии «Хореография в расширенном поле: современный танец в городской среде» с развернутыми комментариями участниц_ков.
Расшифровка беседы: Настя Денисова
Редактура: Егор Рогалев, Марина Исраилова, Дарья Гетманова
Егор Рогалев: Наша онлайн-беседа, изначально запланированная как обмен практическим и теоретическим опытом под эгидой проверки понятия «хореография в расширенном поле» на прочность и гибкость, переросла в нечто большее, что совершенно естественным образом подвело нас к мысли о необходимости продолжения в виде коллективного текста. Название дискуссии, содержащее в себе отсылку к важному понятию для теории искусства конца 20-го века, в итоге вызвало достаточно интересную полемику, которая развивалась как серия различных противопоставлений: танца и хореографии, скульптуры и танца, хореографии и драматургии. Чтобы сохранить представление о нашем разговоре, как о живом саморазворачивающемся процессе и постараться выстроить его письменное продолжение исходя именно из этого, я хочу обратить внимание на вопросы, которые в этот разговор изначально не закладывались, но

Как отметила Саша Портянникова, мы лишь создаем «ситуации, в которых зрители (или мы сами) могли бы пересмотреть существующие представления о том, чем хореография является или не является». Понимание художественного произведения как ситуации проявляется с особенной остротой, когда работа реализуется за пределами привычных институциональных пространств и непосредственно соприкасается с социальной реальностью. Более того, современный танец и перформанс в отличие от других жанров и медиумов в силу своей специфики способны обеспечить прямой доступ к процессам, в которых художник выступает не в роли создателя или автора, а, скорее, в роли оператора. В том числе оператора собственной трансформации — того, кто по словам Ани Кравченко вынужден в первую очередь «отодвинуть» и «разобрать себя», для того чтобы запустить коллективное проживание и стать его частью. Но также и для того, чтобы занять критическую дистанцию по отношению к самоочевидным и дисциплинирующим способам проживания пространства и взаимодействия с предметами, которое Андре Лепеки, применяя теоретический аппарат Жака Рансьера, называет «хореополицией». В результате такого пересобирания и коллективного проживания художники, соучастники и наблюдатели закономерно оказываются в точке, где становится возможным возникновение «хореополитики» — политической стратегии сообщества, основанной на несогласии с самоочевидным дисциплинирующим порядком.
Исходя из всего этого я хочу предложить выстроить продолжение нашей беседы вокруг вопроса Нины Гастевой о том «Как давать вещам случаться?», который тем или иным образом резонировал с выступлениями остальных участниц_ков и который, на мой взгляд, напрямую отсылает именно к такому пониманию художественных процессов — «дать вещам случаться — это убрать себя, свой шум, чтобы хотя бы самому заметить, что случилось. В этой фразе нет господина. Не позволить, а именно дать вещам случаться».
Ольга Цветкова: В районе 20 лет я пережила очень важный опыт. Созерцание мира вне себя. Я сидела на ступеньках супермаркета. Ветер поднимал и нес мимо меня мусор, голубей и пыль от дороги. Это все длилось мгновение или, наоборот, вечность. Я увидела мир точно таким же, как и всегда, но без меня. Как будто я умерла и абсолютно ничего не изменилось. Мне стало одновременно жутко страшно, очень спокойно и беспредельно радостно. Это был момент истины: мир, который можно потрогать, прочувствовать насквозь. Через много лет, работая над новым спектаклем, я наткнулась на реквием Марины Цветаевой. Читая его, на меня обрушился целый душ из воспоминаний: все, что я тогда пережила, она прозрачно назвала словами. Где-то точно есть общий для всех нас эгрегор, подключившись к которому, становишься медиумом или шаманом; ловишь одни и те же эмоциональные состояния, пропускаешь мир сквозь себя.

Вычеркнуть свой взгляд. Быть на положении рассказчика, присутствующего лишь затем, чтобы «поднять занавес», словно история играется от имени вечности и как бы без меня.
Только такой путь я вижу для себя сегодня. Позволить зрителю всматриваться так пристально, чтобы вещи становились однозначными и осязаемыми, а мир до тошнотворности ясным. Так пишет мой любимый Бела Тарр. Иногда мне кажется, что это мои собственные мысли, просто он помог мне их вспомнить, вытащить из пластов подсознания. Убрать все отвлекающее или слишком лиричное, настойчиво гипнотизировать своим стилем. Ждать апокалипсиса, который давно наступил.
Около меня лежит книжка Робера Брессона «Заметки о кинематографе». Я абсолютно уверена, что кинорежиссеры — это те же хореографы, только под прикрытием. Они тоже приглашают зрителя в состояние предельного внимания, предлагают прожить определенный отрезок времени вместе. Робер идет дальше, он призывает зрителя в тишину. Многое может быть выражено рукой, головой, плечами!… Сколько бесполезных и мешающих слов тогда исчезнет! Какая экономия!
Искусство не в уме, искусство в нашем взгляде, в нашем слухе, в памяти наших чувств.
Меня зовет сама текстура времени, с которой работают кинорежиссеры. Опустошать язык до высокой абстракции, как скульптор, убирать все лишнее, отвлекающее или слишком лиричное. Меня интересуют только метафоры, экзистенциальные по характеру. Они не описывают зрительный образ, в них нет никакого «словно», никакого уподобления — человек здесь действительно прекращает быть человеком, переживая чуждость и неподобие и оставаясь посредине: между телом и словом, между подсознанием и формой. Вот это самое переживание растворения себя во времени. Как показать мир без себя?

Есть автор и есть тот, кто завершает высказывание автора своим взглядом и актом присутствия. Произведению искусства необходим этот всматривающийся взгляд зрителя, который делает видимым, проявляет намерение автора. Вещи становятся осязаемыми. И автор, и зритель как таковые исчезают, оставляя лишь органы чувств. Перед нами предстает совсем иной мир: плотный, призрачный и очень хрупкий.
Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь).
А. Введенский
Даша Плохова: Хореография для меня существует как инструментарий — в этом и есть критическая позиция. Это такой набор инструментов, который вы применяете для Необходимости, а не как априори самоценный набор операций, результатом которых является ожидаемая надежная форма танца, спектакля, перформанса… Поэтому моей первой профанной трактовкой «расширенного поля» было расширение сфер применения хореографических операций, расширения Необходимости применять хореографию. И что это за Необходимость? У кого она случается? Иногда я чувствую эту самую Необходимость применить хореографию к новым смысловым и физическим полям.
Но текст Краусс выстраивает расширение поля скульптуры в ином ключе. И я как будто этого ключа здесь не наблюдаю, так как я думаю, что мир хореографии и мир скульптуры живут по разным внутренним законам, как макро- и микромир. Их законы различны, но они сосуществуют. И бог с этой статьей. Вернемся к вопросам.
Вопрос: «Как так сделать, чтобы дать чему-то случиться?». Такой тип вопросов меня путает и, кажется, наводит туман. Тут как будто оказываешься на позиции Бога. Я им или ей не была, и давать чему-то случаться мне сложно.

Моя сфера рассмотрения вертится вокруг мысли, что искусство и танец — это про ощущения и переживания, которые задействуют все перцептивные поля зрителя, и это помогает менять или заострять его ментальные фокусы. Но это чаще всего происходит, когда я как постановщик или исследователь нахожу нечто, что меня саму заставляет что-то чувствовать по-другому, видеть с другого ракурса. Таким образом, будь то перформанс, спектакль или лекция, я, в общем, делюсь своим опытом. То есть, скорее, это со мной что-то случилось божественным образом, а я схватываю этот момент и воспроизвожу его. Это схватывание и воспроизведение я называю хореографированием. Если я делюсь этим опытом достаточно открыто, с учетом общих тенденций восприятий зрителя, то
Аня Кравченко: Первое, что я замечаю — это то, как процедура написания этого текста организует поток моих размышлений. Отвечаю ли я на вводную реплику Егора (Рогалева), поддерживаю или нет уже сформулированные высказывания Ольги (Цветковой) и Даши (Плоховой), строю гипотезы о том, что напишут Нина (Гастева), Саша (Портянникова), Валя (Луценко), Марина (Исраилова), Полина (Фенько), Марина (Шамова), и все ли подключатся к этому продолжению дискуссии?
Прямо сейчас я отказываюсь от идеи написать свой ответ в другом текстовом редакторе и оставляю непроработанные наброски текста в моем воображении тут в виде списка: клеточное сознание, Симон Форти, Джон Балдессари, состоянии танца, воспоминание о ланче на ступенях храма эпохи римской империи в перерыве моего рабочего дня исполнителем–хранителем на выставке «Другой способ движения» [1] в музее современного искусства города Ним.
Оставляю, чтобы удержаться в этом моменте пересечения пришедших и утекающих в разных направлениях —
возможных;
уже невозможных, но воображаемо желанных;
еще скрытых
и иных
размышлений. Если и думать о
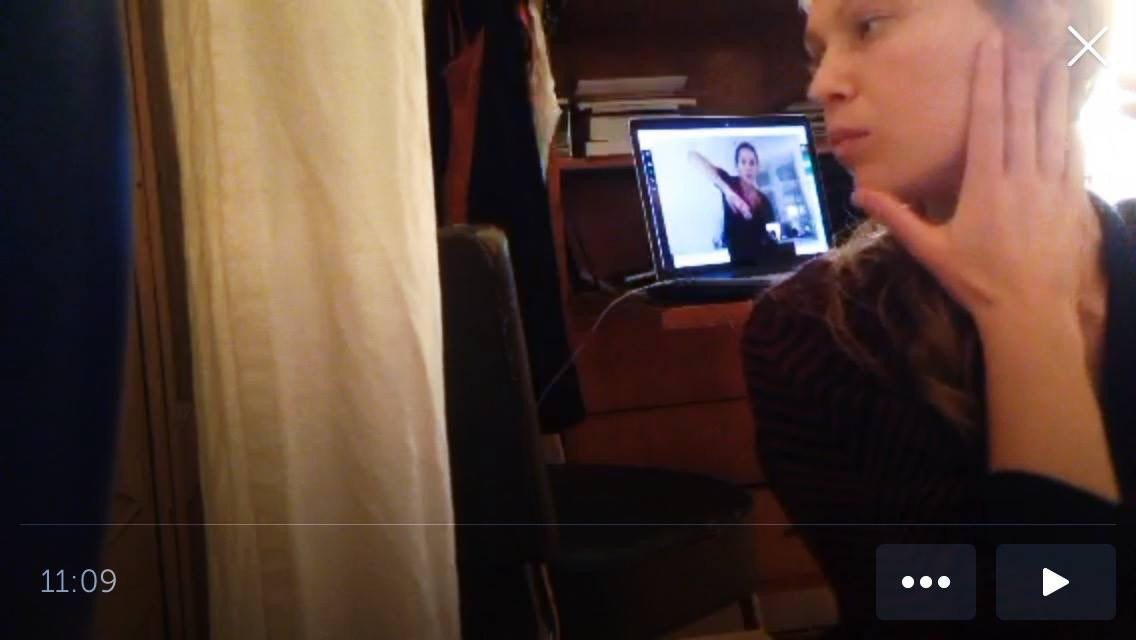
В этом поле вопрос «Как давать вещам случаться?» и мое повторение этого вопроса — всего лишь композиционный прием. Дать случиться (или пережить нечто, как «я даю этому случиться») — это отступить (то есть не сделать чего-то другого), стать фоном (или проводником), на котором (сквозь который) что-то другое выделится фигурой (сообщением). Феноменологическая игра фигуры и фона — точка, где скульптура, хореография, кино и другие могут разделять общий критический и поэтический инструментарий. В этом смысле попытка перенести категорию из истории визуальных искусств и рассмотреть работу танцовщика и хореографа в городской среде как «хореографию в расширенном поле» может быть продуктивной. Хореография как скульптура, сошедшая с пьедестала и вышедшая на прогулку (вышедшая в среду, еще не маркированную как «место для танца») — еще одна возможность для меня перестать иметь дело с танцем как метафорой (эфемерности, легкости, дикости, спонтанности и прочее) или хотя бы притвориться в том (feigning [2]), что это возможно.
Танцующее тело — это всегда иное, а значит, опасное тело. С необъяснимой причиной этой инаковости мы справляемся, загоняя танец в рамки ритуала, театра, ночного клуба, музея, etc — история танца может быть написана как история его обезвреживания (это ли Лепеки называет «хореополицией»[3], а Шпонберг «одомашниванием» танца[4]?). И в этом смысле «хореография в расширенном поле» рискует быть спутана с «расширенной хореографией» (expanded choreography) — фигуры, от которой выигрывают только культурные менеджеры (как пишет Бояна Свеич[5]), привлекающие хореографов и танцовщиков для обслуживания новых культурных ситуаций.
А пока в Петербурге не разрешено есть свой ланч на ступенях Казанского храма (он обнесен железной оградой), зрители боятся приходить на работу, в которой есть обнаженное тело, а от танцовщика по-прежнему ждут в первую очередь способности сесть на шпагат, почему бы не выходить на прогулки и в другие освященные великой традицией танца места, проявлять иное тело как ловушку для моментов, где действующее и мыслящее, взаимно просвечивая друг друга, приглашают нас в поле вне зоны видимости третьих лиц.
Нина Гастева:
1. Дать вещам случаться
«Дать вещам случаться» — значит следовать за безусловным рефлексом свободы навстречу переживаниям, ощущениям, пилооргазму познания, к вещам, которые случаются.
Галерея «Интимное место, или Лаборадория» — место зачатия Койры (собаки -компаньонки?). Первая вещь,которая случилась — это разговор с собакой, с которой у нас не сложились отношения! Четыре месяца совместного проживания, четыре месяца заботы и причинения ей пользы не сделали нас ближе.
Я лежала на полу, закинув ноги на стену, и смотрела в потолок, она лежала в кресле после капельниц, я причитала в беспокойстве о самой себе и о своей бесполезности в связи с её болезнью. И вещь случилась: Койра меня увидела. Впервые она нашла мои глаза и стала следить за ними, и мы обе длили качество этого общения, которое Урсула Ле Гуин сравнила с сексом у амёб: когда информация от нас идёт напрямую — без кодирования и декодирования и без стимула и реакции.
Такое качество восприятия и есть для меня «дать вещам случаться», или «действовать в бездействии», или «бездействовать в действии».

2. Расширенное поле хореографии
О том, как коллега из другого расширенного поля открывает для себя инаковый путь знания и новой реальности.
Итак, Василий Бубудук — андеграундный стендапер, который идёт за своим чувственным телесным опытом и интересом к материальности своего родного посёлка.
Я хочу предложить вам понаблюдать за тем, как Василий воплощает управляемое аффектом пространство, как он выскальзывает из парадигмы западного рационализма и как дважды переизобретает язык (изобретает свой аватарный язык и сам же переводит его на русский).
Я пытаюсь встроить этого певца и агента тёмной экологии между двумя расширенными полями. Но это только моё желание…
Каждое видео длится 1 минуту. Приятного просмотра!
Полина Фенько: Сербская танц-исследовательница Бойяна Цвежич в своей статье «Как хореография мыслит сквозь призму общества?» определяет хореографию как канал (возможность) для выражения желания танцевать и из этого заключает, что суть хореографического мышления лежит за пределами тела. Понятие хореографического мышления для меня как раз и позволяет расширить диапазон хореографических операций и выборов. Тут, однако, возникает два вопроса: 1) каковы же минимальные условия, позволяющие назвать некое срежиссированное и концептуализированное движение танцем? 2) если можно распознать, где случается танец, возможно ли определить, где танца нет? Первый вопрос кажется мне хоть и важным, но не насущным, поэтому мне бы хотелось остановиться на втором, который касается места: где танец/скульптура есть, а где их нет?
Художник, работающий в расширенном поле, как мне представляется, занят именно последним, а именно негативным пространством: вне тела танцовщика, вне тела скульптуры/инсталляции. Краусс определяет скульптуру в расширенном поле через сопряжение двух исключений: не-ландшафта и
Упомянутая Егором идея танц-художника как оператора, который организует ситуацию, позволяющую танцу случиться, роднит деятельность скульптора (в новом понимании Краусс) и
Важный критический комментарий дает Даглас Кримп в своей статье «Переопределяя сайт-специфичность» из сборника «На руинах музея». Он пишет: «Критика идеализма, направленная против современной скульптуры и ее иллюзорной “безместности”, осталась незавершенной. Включение места в область восприятия произведения лишь позволило распространить идеализм искусства на окружающее его пространство. Специфика места понималась лишь формально — место было абстрагировано и эстетизировано». Подобная эстетизация места, на мой взгляд, очень характерна и для танца в городской среде, и иногда танца, претендующего на

Здесь, в «непосредственном соприкосновении с социальной ситуацией» конечно, начинается все самое интересное. Я не уверена, что с помощью «танцев на улице» можно переприсвоить себе городское пространство. Но что возможно и что мне интересно, так это конструирование самой ситуации, в которой можно намеренно не подчиняться нормализующей хореографии города, пересобирать социально-поведенческие паттерны и, наконец, давать возможность проявиться своим множественным телам, которые были репрессированы существующими социальными нормами в повседневной жизни. Более всего меня привлекает возможность воображать и одновременно с этим давать этому воображаемому проявиться в танце, который в конкретном месте создает пространство переживания.
Саша Портянникова: Благодаря этой встрече и дискуссии удалось не только узнать о множестве интересных практик и художественных позиций, но и — к счастью — обнаружить, выявить некоторые конвенции разговора/понимания/рассуждения/мысли о танце и хореографии. В первую очередь — наличие разделения танец vs. хореография.
Сейчас уже сложно отследить, когда оно появилось и в какой именно момент стало конвенцией. На полях заметим, что сложности терминологии — это имманентное затруднение, как и затруднение речи, которое Латур предпочитает аналитической ясности. Попытки преодолеть эти сложности предпринимаются каждым поколением художников по-своему: можно вспомнить, как еще 10 лет назад принято было говорить скорее о практиках движения, нежели танца.
Возвращаясь к противопоставлению танца и хореографии, смею предположить, что нынешним возвратом танца, как в терминологию, так и в практическое осмысление, мы обязаны весьма спорному и скандальному персонажу — Мартину Спонбергу. Оседлав современный танец в его концептуальной ипостаси, этот весьма виртуозный теоретик со свойственным концептуальному мышлению мастерством, предложил сообществу оппозицию «танец-хореография», которая, как и любая бинарная оппозиция, не могла не быть принятой скорее с облегчением, чем с восторгом. Грустно признаваться, но наш аналитический аппарат — и вместе с ним большинство риторических приемов — заточены именно под оперирование бинарными оппозициями. Простые ответы на сложные вопросы не могут не соблазнять. Но, как и у любого простого ответа на сложные вопросы, у этого решения есть оборотная сторона: танец и хореография, разницу между которыми Спонберг обозначил исходя из своего ощущения и умозаключений, начинают обрастать аргументам и характеристиками, расходясь еще сильнее, как в поле осмысления, так и в практике. Безусловно, у этого подхода есть потенциал, однако, принимая во внимание опыт самого Спонберга (множество текстов, несколько постановок, отсутствие танцевального опыта) я хочу отметить, что подход этот способствует скорее сужению дискурса, поляризации мнений и разведению по разным углам понятий, которые не могут и не должны быть противопоставлены друг другу.

Как и история, которая пишется победителями, история современного танца пишется теми, у кого был ресурс и желание писать. Таким образом, остается за бортом целый сонм практик и культур, основой которых является устная история и вербальные практики, в том числе практики передачи знания. Мы привыкли воспринимать по отдельности «танец, который сценическая форма искусства» и «танец, который социальная практика», противопоставляя их. Далее мы анализируем сценический танец как предназначенный в большей степени для созерцания. Исходя из этой предпосылки, которая укоренилась уже довольно глубоко, мы теперь совершаем революции, занимаясь партисипаторными практиками и эмансипацией зрительского опыта. Если же мы вернемся даже к европейским корням сценического танца (не говоря уже о наследии культур, которым в европейском каноне места не нашлось), выяснится, что даже балеты Людовика XIV были интервенциями на балах, а бальные танцы, как и большинство любых народных — это в первую очередь коммуникативная практика.
Танец — невербальная коммуникативная практика. Хореографии — конкретные примеры тех форм, в которых танец может случаться. И, как и множество любимых бинарных оппозиций, которые продолжают холить и лелеять бенефициары существующего порядка вещей, хореография и танец, так же как форма и содержание, не существуют одно без другого и в иерархии не выстраиваются.
Марина Исраилова: Название дискуссии «Хореография в расширенном поле: современный танец в городской среде» — результат встречи найденной Егором формулы и рабочего названия дискуссии о танце в нашем в общем гугл-доке. Двоеточие между ними может прочитываться как знак равенства или как установление иных отношений между частями этой фразы, например, пояснения или уточнения.
Мне интересно разобрать, как возникают эти отношения и вскрыть механизм появления этой ложной симметрии. Соположение возникло исходя из сходства грамматических структур, появившегося случайно и замеченного мной. Но, конечно, это не является случайностью на самом деле. Грамматика, определяющая отношения между словами и их значениями, хореографирует лексемы и управляет итоговым смыслом так, что это управление всегда неслучайно, но часто обманчиво очевидно. Язык проявляет себя как жесткий, линейный инструмент управления на уровне грамматики, пользуясь властью прятать собственную властность. В какие отношения с языком я вступила, позволив случайному соположению фраз стать названием разговора и его темой? Можно сказать, что я подчинилась завораживающему, успокоительному и усыпляющему сходству структуры, организации и порядка. Или — что взяла на себя задачу разоблачения этого порядка как иллюзорного, намеренно вызывающего отторжение.

Язык и речь для меня — это танец, поскольку мышление является танцем, суммой отношений и движений, развитием и затуханием, разворачиванием, неутомимым и иссушающим потоком и набором мучительных остановок и замираний. И оттого же мышление и танец являются политикой: это всегда что-то, что осуществляется в движении и во множественности. Когда я вижу власть языка, я впадаю в ярость, мне хочется разнести ее, но тут же я понимаю, что это значит только, что я подчиняюсь ей. Это старая добрая ловушка разделения на дискурсивное и материальное, языковое и телесное. Как можно станцевать две грамматические структуры, содержащие разные лексемы? Как можно станцевать двоеточие между ними? Что такое отношения ложной симметрии? Установки моего мышления, видящие структурные сходства и ищущие совпадений или заданных отношений по типу математических уравнений, вводят в такую скуку и индифферентность, что я выпадаю в мышление картинками. Это качели по принципу весов: куда прилагаешь вес, то и тянется к земле. Вчера во время интервью я не смогла описать свою мысль, но видела ее как образ: кусок нарратива, который казался достаточным для ответа на поставленный вопрос, на самом деле не являлся таковым, так как для того, что стать достаточным для прояснения чего-то, нуждался в долгом описании этого неясного нечто. Чтобы быть точкой фокусировки, нужно поле неразличения. Противопоставление задается смычками, серыми зонами, переходами, зубчиками застежки-молнии, и вот сейчас я вижу в танце коготки запятых, в движениях пальцев по клавиатуре — набор повторов-окончаний, слова входят друг в друга как суставы в суставные сумки и я начинаю подозревать, что мне удается отменить свою ярость.
Проблема языка для меня — это проблема иллюзии понимания, иллюзии, так хорошо знакомой всем, кто испытал чувство знания определенного способа говорения о
Марина Шамова: Так невозможно себя оставить, что я в растерянности, о чем это «убрать себя». Вещи случаются в шуме, в «грязном» движении. Шум становится хореографией, хореография становится шумом. Жизнь города мы описываем во многом через шум — это его ткань. Если убрать себя кажется возможным, то кто этот «сам»? Кто заметит что случилось, если господина
Я могу дать вещам случаться в то короткое время, когда признаю, что контролировать, случатся они или нет, не в моей власти. И одновременно я не могу дать, ровно как и забрать, у вещей возможность случаться. Выходит, что мне ближе не мешать происходить тому, что происходит, но идея «мешать» не в разрыве с происходящим. Если я могу заметить случившееся, то это всегда уже немного не то, что и совершенная неправда, потому что «всегда уже немного не то» — это неолиберальная скорость. Относительно чего «я», которое убрал господин — а иначе кто бы мог это сделать? (господин как внутренний объект) — интерпретирует случившиеся. Понимание случившегося всегда зависит от того, откуда, куда и кто смотрит.

Мой любимый сюжет снов — это апокалипсис или моя смерть. В первом случае умирают все, и мне, как и другим, недоступно увидеть то, что будет после — как бы «не доставайся, жизнь, никому». Во втором — либо я умираю и просыпаюсь с наслаждением от того, что продолжаю
Встречно этому, давайте уже перестанем давать случаться вещам. Большинство из того, что происходит, просто не должно и не может происходить. Тогда «дайте вещам случаться» можно рассмотреть как запрос к обладающему такой властью неинтроецированному Другому — мир уже изменился и продолжает меняться, хватит ему мешать, хватит старательно делать вид, что ничего не происходит, что тела просто бестолку копошатся в своем компосте. Это фантазия о том, что Другой сможет это осознать, а мы мало что можем изменить без того, чтобы Другой просто сдался или что-то понял.
Встроенность тела в пространство города, дома, автобуса, гендерно маркированного туалета, встроенная в тело ограниченность пространства для многих. Все это связано со множеством «практик» отношений, повседневности. Слово «встроенность» тел в — или — в тела, тут как беспомощность перед желанием различать и ничего не говорит о том, что может быть познано как существующий порядок вещей. Архитектура и хореография города «порождает принципы мышления и действия, воспроизводящие схемы культуры»[6]. Вместе с этим мы производим новые связи, присутствуем, движемся, танцуем, говорим — исполняем происходящее, со-происходим, перерабатываем смыслы. То, что исполняется, можно хореографировать, интерпретировать, чтобы думать, узнавать существующие законы, не переставать осознавать.
Хореография — это вторсырье исполняемого — эффект доумирания того, что живет на самом деле дольше, чем мы хотим от этого избавиться. Это ответственность за исполняемое, за изменение и существование тел, границы которых надежны, но и не очевидны. Хореография как вторсырье исполняемого — это не вторая жизнь, это все та же, а танец — это компост[7].
Что, если мы оставляем себя и принимаем шум?
Валя Луценко: Я никогда не удовлетворена тем, что могу сказать словами, а тем более — написать. Я училась 6 лет на истории искусства и
Наверное, это правда, что что-то стало с языком и бывает очень трудно говорить, как сказала Нина Борисовна. Невыговариваемость как признак перехода от теоретика к практику. Я всегда на границе с незнанием. Поселяюсь на границе знания и незнания. Рефлексия, схватывание, понимание, но только такие, которые сразу проникают в кровь, минуя речь, и отражаются в новом поступании, физическом переходе к новой перспективе, минующей описания. Это цена, которую платит артист устного жанра, то есть танцовщица. Зависание на границе с незнанием, понимание, которое появляется и держится так долго, как нужно, чтобы сразу попасть в кровь действия, но недостаточно долго, чтобы его можно было запомнить, ускользающее от определения, которое претендует на верное, а потом на догму — для меня это и есть расширение, для меня это и есть «давать вещам случаться». Давать вещам случаться — это не знать ничего о вещах как Адам и Ева через называния, а быть расположенным так, чтобы мы все друг друга видели и слышали.
Мир поддается описанию с помощью извлечения невидимых структур.
А.Т. Драгомощенко

Текст — это движение, которое может быть изъято языком танца через ритм, фонетические ассоциации, простор, динамику, интонацию письма, тему, тело автора, промежутки в тексте и т. д. Так осмысленный через движение текст может стать хореографией.
Читаемый текст — это своего рода телесная партитура, и мы извлекаем с ее помощью музыку перевоплощения…
В.А. Подорога (из кн. М. Ямпольский «Демон и лабиринт»)
Процессы чтения и познания всегда косвенно влияют друг на друга, но в один момент времени я всегда занята чем-то одним — или чтением, или движением, или иллюзией дуэта, где чтение и движение всегда хотят перетянуть меня на свою сторону. Движение старается изо всех сил, чтобы я окунулась в него и забыла про текст, текст делает то же самое. Их роднит только борьба за моё внимание.
Танец кажется иным искусством, потому что его инструмент вшит (вместе с другими похожими инструментами) в тело творца. Отсюда может показаться, что искусства, прибегающие к посреднику (карандаш, кисть, смычок) иначе создают, отделены на вещь от процесса. Это так для созерцателя, но не так для создателя. Как зритель я отхожу от скульптуры, как скульптор я вхожу в скульптуру, придвигаюсь, вчитываюсь, вхожу туда всей своей жизнью, своей рукой, своей кинестетикой. Отодвигать можно свои мысли о себе в процессе творения, но не себя. Хотя, может быть, это одно и то же.
Просперо говорит: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны».
Цитата из драмы Шекспира «Буря» (из кн. Г. Бейтсон, «Разум и природа»)
Из дневника: Сейчас проснулась чем-то вроде цельного куска, узла, холода камня, вкуса железа, формы рельса. Лежала на животе. Как робот/механизм/компьютер в мягком силиконовой футляре, железо в силиконе. Особенностью его является проступание тяжести цельной (куб?) из глубины на поверхность. Я различаю в теле глубины и поверхности, дыхание чего-то, градиент плотностей по мере движения из центра к периферии. Как говорил Платон, — однородным это быть не может, иначе не будет различаться. Тело-симфония/бурдюк неоднородностей/неоднотельностей. Друзья на расстоянии вытянутой руки. Снилась «стена аффекта», необходимость сильных рук, шведская стенка, цвета, переливы амальгамы (недавно узнала, что так выглядят гормоны, то есть я
Примечания:
[1] Lista, Marcella, et al. A Different Way to Move: Minimalismes, New York, 1960-1980. Carré D’Art, 2017.
[2] Cvejić, Bojana. “Imagining and Feigning.” Movement Research, edited by Mårten Spångberg, 2018.
[3] Cм. вводную реплику Егора Рогалева.
[4] Spångberg, Mårten. “Is the Living Body the Last Thing Left Alive? The new performance turn, its histories and its institutions.” Para Site, 2014, https://youtu.be/vLpqQj7ZPQ8.
[5] Cvejic, Bojana. “Credo in Artem Imaginandi.” Post-Dance, edited by Mårten Spångberg, Danjel Andersson, Mette Edvardsen. MDT, 2017.
[6] Герасимова Е.Ю. Советская коммунальная квартира // Социологический журнал, 1998. №1—2.
[7] Харауэй Д. Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулуцен: создание племени // Художественный журнал, 2016. №99. См. у Д. Харауэй: «Как говорят художники эко-сексуалы Бет Стивенс и Энни Спринкл, компостирование так заводит!».