Лев Данилкин. «Ленин: Пантократор солнечных пылинок»
Биография Ленина писателя и литературного критика Льва Данилкина, вышедшая в издательстве «Молодая гвардия», стала одним из центральных литературных событий столетнего юбилея революции 1917 года. К петербургской презентации книги в литературном клубе на Новой Голландии с участием автора и художника Арсения Жиляева публикуем фрагмент главы, действие которой происходит в Петербурге, — о заключении на улице Шпалерной, ленинской критике народников и знакомстве с Крупской.
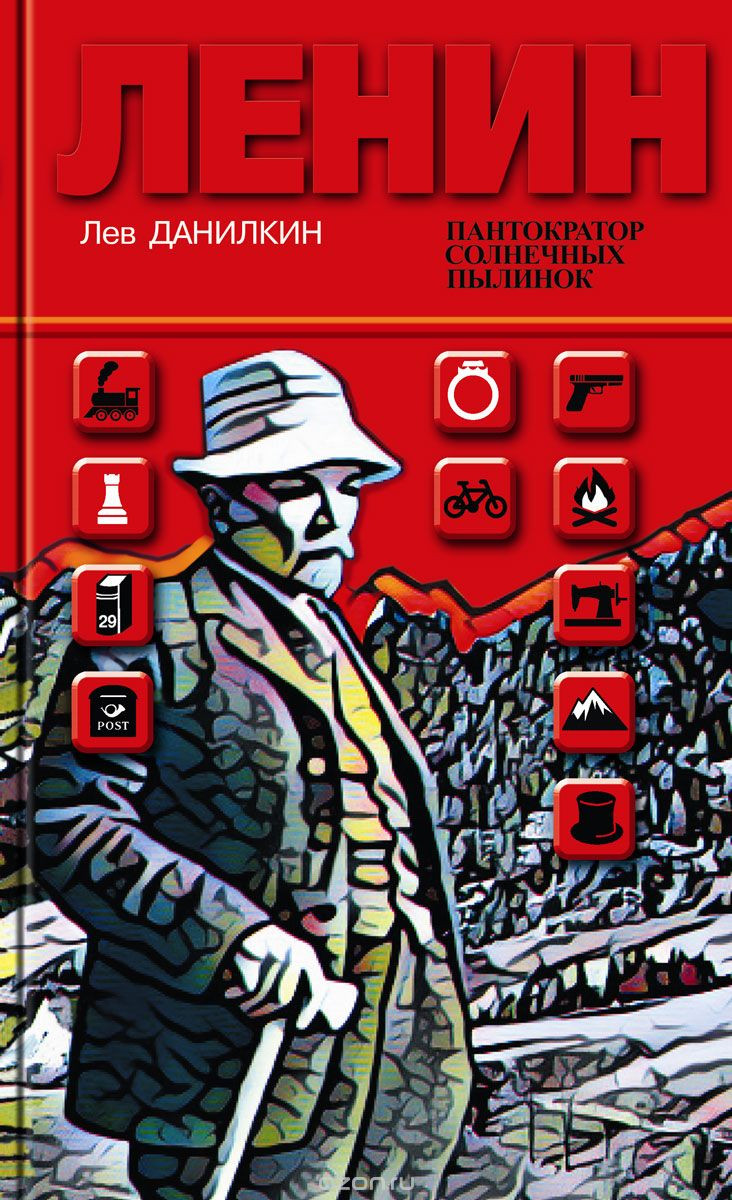
Петербург, 1893–1897
Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной Биохроники Ленина: лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде «1.07.1917 — 10.07.1917», «1898, 2-я пол.» и т. п. Если это правда, то синекурой, о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра, наверняка была должность заведующего кабинетом «1896»: год, про который мы знаем меньше, чем про
Сам он о своем замке Иф особо не вспоминал, проворчал только через 14 месяцев, не успев дописать книгу: «Жаль рано выпустили, надо бы еще немножко доработать». Надзиратель тоже мемуаров не оставил. Мать — сохранились письма — просила освободить его под поручительство, но безответно. Четыре раза его допрашивали. Два раза в неделю можно было видеться с родными: один раз лично — полчаса, второй на общем свидании, через решетку, — час. Чтобы увидеть «невесту» — Надежду Константиновну, ВИ убедил ее явиться в условленное время на Шпалерную и встать в том месте, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы.
Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го на квартире будущего руководителя Гидроторфа и создателя аппарата «торфосос» инженера Р. Классона — где, под видом празднования Масленицы, состоялся мини-съезд марксистского крем-де-ля-крем Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины настоящими: жандармы иногда заявлялись на околополитические сборища и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола, потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта — «Больше вам Гипербол не будет»; реквизит тоже приходилось предоставлять качественный — отсюда и блины.
Дом Первого свидания (в Биохронике — Большеохтинский пр., 99; потомок инженера, М.И. Классон, называет соседний — Панфилова, 26) не вошел в ленинскую мифологию; курьез в том, что это место находится ровно напротив — через Неву — от Смольного, где супруги Ульяновы поселятся 23 года спустя.
Больше, чем своим грядущим местом жительства, блинами и будущей женой — тогда учительницей Корниловских курсов и мелкой чиновницей Управления железных дорог, 24-летний ВИ интересовался другими гостями — П. Б. Струве и М.И.
Политэкономы и, по мере необходимости, философы П. Струве и М. Туган-Барановский были, по выражению А. Тырковой-Вильямс, «два Аякса марксизма», которые «вместе давали битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольного экономического общества», «вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников».
ВИ увидел этих полубогов — ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург — живыми впервые, но не стушевался: если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги — и для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси так же верно, как стрихнин уничтожает крыс, а диалектика — либеральную глупость.
М.И.
Что касается П. Б. Струве, то он оказался более покладистым; возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская — и весьма благосклонная — рецензия на последнюю книгу Струве; так или иначе, с того вечера пройдет совсем немного времени — и ВИ сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом.
«Друзья» («Что такое “Друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?») были «цыганочкой с выходом» молодого, «дошушенского» Ленина — которую он исполнял в «салонах» и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря «Друзьям» ВИ заработал себе эпатажную репутацию «рассерженного молодого человека», завтракающего живыми радетелями за крестьян и способного содрать позолоту с нимба на любой иконе. Впрочем, нимбы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли — и идеология их, которую еще только предстояло переформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика.
Как и большинство ленинских «шлягеров» такого рода, «Друзья» — полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага — «честной буржуазии». Объект нападок номер один — «главарь» «Русского богатства» либеральный народник «г-н Н. Михайловский», искренне переживавший разорение русского крестьянства и усомнившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности.
Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат поразительно развязно по тону: «Поскребите “народного друга” — ‹…› и вы найдете буржуа»; «с мещанской пошлостью размазывает»; «разглагольствует»; «решительно отказываюсь понимать — если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой?!»; «но ведь пишет это не институтка, а профессор» и т. п.
Настоящий конек ВИ — недружественный, в духе энгельсовского «Анти-Дюринга», пересказ с язвительными комментариями: «это замечательное “но”! Это даже не “но”, а то знаменитое “mais”, которое в переводе на русский язык значит: “уши выше лба не растут”»; «С таким же успехом можно бы связать и г. Михайловского с китайским императором! Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор?!»; «Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевирания Маркса?»; «для грудных детей, что ли, рассказываете это Вы, г. Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни?! Ну, что Вы зубы-то заговариваете?». В качестве мизерикордии ВИ пользуется классическими текстами; здесь — гётевским стихотвореньицем «Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится»; хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как в Англии, общество в лучшую сторону — или означает фактическое вымирание деревни.
Эта черта ВИ — ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит «чушь», злым смехом, — при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее; чего не скажешь о большинстве других знакомых ВИ. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника в сопровождении предуведомления «только подлецы и идиоты могут говорить, что…» не является основой для конструктивного общения, он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком; Г. Соломону, который знавал ВИ не только по политическим, но и по семейным делам, он казался «полуненормальным».
Незнакомым, впрочем, это, скорее, нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков «Друзей» и на вопрос, какой именно, отвечали — а тот, где ее брат употребляет больше «крепких слов». Потом, правда, выяснилось, что под «выражениями уж очень недопустимыми» имелось в виду, например: «Михайловский сел в калошу»; но идея понятна, и хотя ВИ, возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление берсерка, на самом деле его язвительность точно дозирована и просчитана.
И хотя ленинский «ситком о народниках» безбожно растянут (а ведь сохранились только две из трех дошедших до нас частей — середина пропала); хотя Н. Михайловский — пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом — едва ли заслуживал той шокирующей манеры, в духе «ах Моська знать она сильна…», которую ВИ избрал для его критики; и хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык («изложивши…», «излагающей…» в одном предложении; кто на ком стоял?), текст и сейчас можно вернуть к жизни — если как следует жахнуть его дефибриллятором.
Считается, меж тем, что именно «Друзья» изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше «смотрели в лучшем случае как на чудаков, пренебрежительно похлопывали по плечу (“ах вы марксист эдакий”), насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков» (намек на увлечения статистикой и фразу Струве про необходимость для России «пойти на выучку к капитализму»), то есть «травили как выродков в семье благородной русской интеллигенции» (Б. Горев). Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мячом все сто процентов времени — и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач: «отповедь всем божкам народнической публицистики» — дал; «несостоятельность» их подхода в социологии, философии, экономике и политике — вскрыл; умение бить противника статическими выкладками — продемонстрировал; монополию марксистов на понимание диалектического метода — отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» «припев» — хамские персональные атаки на лидеров народников и их идеологию; но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода: что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции, потому что пролетариат, да, вытащит для буржуазии каштаны из огня, но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием — однако в этом предупреждении прописан — в 1894 году! — весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения, автор формулирует настоящую задачу рабочих: не просто реализация стихийных революционных инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину, еще раз заметим, 24 года.
Если осенью 1894-го Надежда Константиновна видела ВИ только в марксистских салонах, где тот размахивал своими «желтенькими тетрадками» с «Друзьями» — которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, — то зимой 1894/95 года они знакомы «уже довольно близко», неопределенно поводит рукой в воздухе НК.

«Я жила в то время на
Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха; чаще ВИ и НК вместе отъезжали по делам, и ВИ учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, методам ухода от «негласного надзора» — перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты — и искусству шифрования: для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, — и начинали шифровать тексты — и дробями, и через точки над буквами в книжках, и «химией».
Все это оказалось весьма кстати, когда ВИ оказался взаперти на Шпалерной, где все его письма, разумеется, просматривались; приходилось прибегать к разным уловкам.
НК выполнила просьбу «жениха» — и в течение нескольких дней приходила на указанную точку; но то ли неправильно что-то поняла, то ли еще что-то пошло не так — и в следующий раз они увиделись только в Шушенском. В качестве компенсации за эту «невстречу» ВИ мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки; мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы — и энергично работает над «Развитием капитализма в России», дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально, точками, через книги из тюремной библиотеки, с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым («ухитрялись даже играть в шахматы»), много ел (чтобы писать тайные послания молоком между строк писем и на книжных страницах, нужно было иметь «чернильницы»; ВИ приноровился лепить их из хлеба — и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери; «Сегодня съел шесть чернильниц», — отчитывался он в письмах НК; будущая теща нашла его в феврале 1897-го несколько пополневшим), проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай — имея последний в достатке («Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной»). Его веселое настроение разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо, — например, Потресов просидел пять месяцев из тринадцати не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ ВИ, студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную, не исключено, с тем, что ему дали срок ссылки на два года больше, чем всем, — якобы как главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все, связанное с цифрой «два», — до такой степени, что он растоптал один из цветков, который невеста Ванеева принесла в тюрьму; уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице.
ВИ, представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому.
Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, клистирную трубку и один раз зубного врача.
Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Всю жизнь ВИ терзали зубные демоны — и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности: «у партии имеются два флюса: флюс справа и флюс слева — ликвидаторы и отзовисты… партия сможет снова окрепнуть только в том случае, если она вскроет эти флюсы»; «ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации, — строить наше экономическое здание».
Именно
Опять же с подвязанными зубами Ленин — совпадение? — проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста; как раз где-то на пятачке, который он указал в качестве места встречи своей невесте, стоял пикет пелевинских юнкеров в «Хрустальном мире». Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится «следственный изолятор центрального подчинения» СИЗО-3 ФСИН России. На просьбу автора книги, отчаянно размахивавшего «официальным» письмом из издательства, разрешить с ознакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, по указанному на сайте телефону было сказано буквально следующее: «Там ремонт, ничего нет, ни музея, ничего, стены разбиты, самой той камеры больше не существует».