Марксизм и литературная критика: Алекс Каллиникос о тексте в контексте истории
«Всегда историзировать!» — гласит знаменитое высказывание Фредрика Джеймисона, которое он охарактеризовал как «единственный абсолютный и можно даже сказать “трансисторический» императив любой диалектической мысли». Действительно, подобной установки стоит придерживаться каждому, кто следует Марксовой теории истории в изучении объектов культуры. Проще всего объяснить эту теорию следующим образом: объекты культуры остаются непонятыми до тех пор, пока не будут помещены в широкий контекст исторически обусловленных социальных отношений, в рамках которых они возникли. Но как можно «историзировать”, и в то же время сохранить текст, не дав ему раствориться в историческом контексте? Эта проблема проявляется отчетливее всего, когда рассматриваются вопросы, связанные с формальным построением текста. Маркс и Энгельс унаследовали от Гегеля нелюбовь к разделению формы и содержания: по словам последнего, «форма есть процесс осуществления содержания» . Но опять же, как показать, что форма является частью этого процесса, не принимая во внимание ее историческое своеобразие?
Разумеется, теория литературы не входила в число первостепенных проблем, занимавших основоположников исторического материализма. Наиболее известное высказывание Маркса, касающееся этой теории, противопоставляет производительные силы и производственные отношения, которые в совокупности формируют «реальное основание» общественной жизни «юридической и политической надстройке», развивающейся из базиса: «При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с
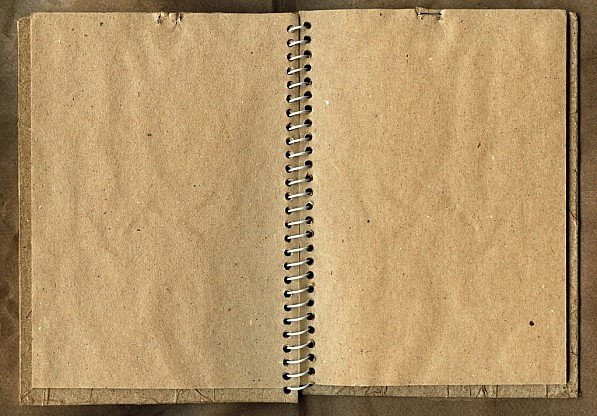
Мы видим здесь то, что Фрэнк Кермоуд назвал «теорией расхождения», согласно которой «марксистский анализ позволяет выявить в текстах смысл, выходящий за рамки авторской интенции». Хотя, как мы увидим ниже, эта идея оказала значительное влияние на альтюссерианскую критику, по сути она осталась в сочинениях Маркса и Энгельса в качестве интригующего наброска, но не более. Возможно, одна из причин, по которой она не была развита, заключается в очевидной стратегии, позволяющей выявить расхождения между авторской интенцией и смыслом: это изучение формального построения текста. Но, по замечанию С.С. Прауэра, «Марксу не часто приходилось иметь дело с вопросами формы».
Это невнимание к форме стало эндемическим для Второго интернационала (1889-1914), первого массового социалистического движения в Европе, которое стремилось к кодификации относительно упрощенного и детерминистского варианта исторического материализма. Когда ведущие теоретики Второго интернационала, такие как Карл Каутский и Георгий Плеханов, обсуждали литературные тексты, они показывали их зависимость от материальных условий. Потенциально более ценной была попытка Антонио Лабриолы, который в «Очерках материалистического понимания истории» (1896) предложил различать исторический материализм и теорию взаимодействия различных «факторов» — экономических, политических, культурных и т.д. Марксистская теория истории чаще всего рассматривает общество как тотальность, понимание которой первично по отношению к пониманию составляющих ее частей. Этот подход оказал влияние на Троцкого и предвосхитил философскую переработку марксизма, предложенную Лукачем в «Истории и классовом сознании» (1923).
У Троцкого мы находим наиболее последовательную попытку концептуализировать место литературы в тотальности общества с точки зрения классического марксизма. Благодаря выделявшему его среди марксистских лидеров писательскому таланту, он плодотворно исследовал отношения между формой и историческим контекстом. Его наиболее важная работа в этой области — «Литература и революция» (1923) — была вмешательством в напряженную дискуссию о вопросах искусства, начатую русскими интеллектуалами после Октябрьской революции. В ней Троцкий ведет борьбу на два фронта. В первую очередь он выступает против Пролеткульта, который процветал в первые годы нового режима. Сторонники Пролеткульта утверждали, что рабочее государство должно незамедлительно приступить к созданию «пролетарской культуры», радикально отличающейся от культуры буржуазного общества. Эта позиция представляет крайне грубую форму экономического редукционизма, но Троцкий выступил также и против футуристического движения, которое появилось в России еще до Первой мировой войны. Многие футуристы присоединились к революции, но
Блестящий полемист, Троцкий следует за Марксом и Энгельсом и также начинает анализ со значительных социально-экономических преобразований, однако уделяет гораздо больше внимания проблемам литературной формы. Он критикует пролеткультовцев за то, что они не в состоянии признать материальную и культурную отсталость русского рабочего класса. Создание художественных форм, радикально отличных от форм капиталистического общества, должно быть частью более широкого процесса, направленного на создание экономических и социальных условий для коммунистического общества, в котором исчезнут все классы, в том числе и пролетариат. При таком подходе идея «пролетарской культуры» является внутренне противоречивой, это попытка абсолютизировать мимолетные черты общества переходного периода. Наследие буржуазной культуры может оказать ценную поддержку рабочему классу, стремящемуся преодолеть свою отсталость.
Троцкий противостоит нигилистическому отношению Пролеткульта к искусству прошлого, но в то же время называет формализм «недоноском идеализма в применении к вопросам искусства». Формализм разрушает комплексную целостность общества на отдельные факторы, но не доводит этот метод до конца: если «процесс поэтического творчества» это просто «сочетание звуков и слов», то почему не использовать «алгебраические сочетания и перестановки словесных элементов», чтобы создать все возможные поэтические произведения? (Троцкий здесь предугадывает дальнейшее развитие структурализма Романом Якобсоном и Клодом Леви-Строссом.) Тем не менее, формальный анализ необходим: «словесная форма не пассивный отпечаток предвзятой художественной идеи, а активный элемент, воздействующий на самый замысел». Но «идея», содержание, вытекает из природной и социальной среды. «Художественное творчество» есть «преломление, видоизменение, преображение реальности по особым законам художества. Как бы фантастично ни было искусство, оно не имеет в своем распоряжении никакого другого материала, кроме того, какой ему дает наш мир трех измерений и более тесный мир классового общества». Сами художественные формы вовлечены в диалог между унаследованными от прошлого и исторически сложившимися потребностями нового поколения производителей произведений искусства: «Художественное творчество есть всегда сложная перелицовка старых форм под влиянием новых толчков, исходящих из области, лежащей вне самого художества». Таким образом, «продукты художественного творчества должны в первую очередь судиться по своим собственным законам, т.е. по законам искусства. Но только марксизм способен объяснить, почему и откуда в данную эпоху возникло данное направление в искусстве, т.е. кто и почему предъявил спрос на такие, а не на иные художественные формы».
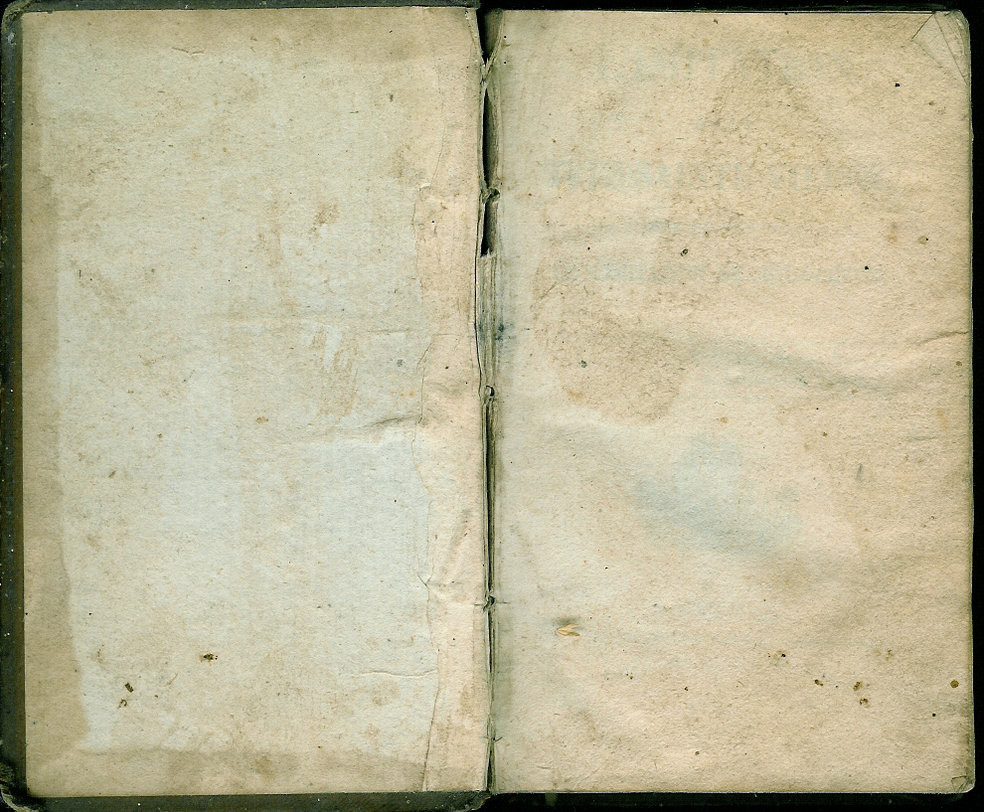
Троцкий развил эту концепцию искусства в более позднем эссе о «Путешествии на край ночи» Луи Селина. Несмотря на болезненный пессимизм автора, его «панорама абсурдности жизни» — результат эстетического и политического отрицания: «Чтобы избавиться от страха перед жизнью, этот «врач для бедных» должен был искать новые стилистические приемы. Вообще говоря, это закон, управляющий эволюцией искусства: оно движется через столкновение противоположных тенденций». Писатели, которые стремятся выработать язык, соответствующий их обстоятельствам, как правило вынуждены бессознательно восставать против статус-кво:
Творчество не может развиваться иначе как отталкиваясь от официально провозглашаемой традиции, от канонизированных идей, чувств, от образов и оборотов, залакированных постоянным использованием и привычками. Каждое из новых направлений в искусстве старается отыскать наиболее непосредственный и честный способ для описания пережитого. Борьба с притворством в искусстве всегда превращается в меньшей или большей степени в борьбу с несправедливостью общественных отношений. Эта связь очевидна: ведь если искусство перестает чувствовать эту несправедливость, оно неизбежно вырождается в притворство и маньеризм.
Работы Троцкого о литературе содержат ряд блестящих замечаний, однако их автор занимался по большей части актуальными политическими вопросами и был вытеснен на обочину левой вследствие триумфа сталинизма в Советском Союзе и Коминтерне. Больше всего идеи Троцкого повлияли на молодых нью-йоркских интеллектуалов 1930-х гг., многие из которых увлекались троцкизмом. Утверждение Троцкого о существовании «законов искусства» и его применение «теории расхождения» к таким авторам, как Селин, позволяли позитивно оценивать модернизм и фактически (в разрез со взглядами самого Троцкого) санкционировали заявление Клемента Гринберга об автономии формы в современном искусстве.
Как бы то ни было, модернизм стал серьезным испытанием для марксистского подхода к искусству и литературе. Значительный, хотя и противоречивый вклад в разработку этой темы сделал Лукач. Его работа «История и классовое сознание» (1923) послужила теоретической базой, на основе которой стал возможен гораздо более строгий подход к отношениям между литературной формой и социальным контекстом. По сути Лукач заменил модель базис/надстройка марксистской концепцией общественной тотальности: «Первичность категории тотальности является носителем революционного принципа в науке». Этот подход, вдохновленный Гегелем, был направлен в первую очередь на исследование отношений между частями и целым. Для концептуализации этих отношений Лукач ссылается на теорию товарного фетишизма, которая была разработана Марксом в «Капитале». По мнению Маркса, рыночный обмен продуктов человеческого труда привел к трансформации отношений между людьми в отношения между вещами. То, что на деле было продуктом исторически обусловленных общественных отношений, стало казаться результатом действия универсальных естественных законов, функционирующих независимо от людей.
Лукач утверждает, что процесс овеществления охватил всю общественную жизнь. Опираясь на теорию рационализации Макса Вебера, он показывает, что характерной чертой капитализма является системное противоречие между рациональностью отдельных частей и иррациональностью целого. Отдельные формы и институты последовательно рационализировались, в то время как (общественная) тотальность оставалась неподдающейся осмыслению и контролю. Культура, как и все остальные сферы общественной жизни, охвачена этим основным противоречием. Лукач иллюстрирует это положение на примере развития современной философии, однако подобный анализ может быть применен и к другим культурным форм.
Таким образом, задача марксистской критики — исследовать результаты воздействия товарного фетишизма на литературную форму. Сам Лукач не сделал этого. Разочарование по поводу того, что русская революция не распространилась по всей Европе, а также интенсивная кампания в рамках Коминтерна против «Истории и классового сознания» заставили Лукача в конце 1920-х гг. отказаться от этой книги
Эта критика модернизма основана на теории идеологии, которую Лукач предложил в «Истории и классовом сознании»: идеология определяется объективным положением класса в рамках производственных отношений, а не манипуляциями общественным сознанием или пропагандой. Эта теория, разработанная с большим мастерством, была принята в штыки Бертольтом Брехтом, одним из ведущих марксистских писателей-модернистов. Брехт обратил оружие Лукача против него самого: по мнению Брехта именно Лукач, а не его оппоненты-модернисты, повинен в формализме, поскольку он требует от современных писателей соответствия идеальному литературному стилю, основанному на классическом реализме. «Реализм — это не просто вопрос формы», он должен пониматься широко — как «вскрывающий комплекс социальных причин, разоблачающий господствующие точки зрения как точки зрения господствующих классов, стоящий на точке зрения того класса, который способен наиболее кардинально разрешить самые насущные для человеческого общества проблемы, подчеркивающий фактор развития, конкретный, но допускающий обобщение». Эти цели могут быть достигнуты посредством самых разнообразных форм: «Художественные методы исчерпали себя; приемы больше не работают. Возникают новые проблемы, которые требуют новых методов. Реальность изменяется; для того, чтобы изображать ее, нужно изменить способы репрезентации».
Таким образом Брехт, как и Троцкий, исходил из диалектической взаимосвязи между литературными формами и меняющейся социальной реальностью. Критическая статья о Лукаче (написанная в конце 1930-х, но опубликованная только после смерти Брехта) была направлена в защиту эпического театра как одной из форм реализма. Два других немецких марксиста, благоволивших к модернизму, — Вальтера Беньямин и Теодор Адорно — более последовательно исследовали взаимоотношения между художественными формами и реальностью. Оба стремились обратить «Историю и классовое сознание» против самого Лукача, используя его работу для изучения форм модернистского искусства. Однако между их подходами было существенное различие, отражавшее противоположные эстетические предпочтения. Беньямин поддерживал художников-авангардистов (в частности, сюрреалистов и Брехта), которые объединили формалистические инновации и политический радикализм; Адорно же полагал, что наибольшим критическим потенциалом обладали художники вроде Шенберга и Беккета, творчество которых было в высшей степени абстрактным.
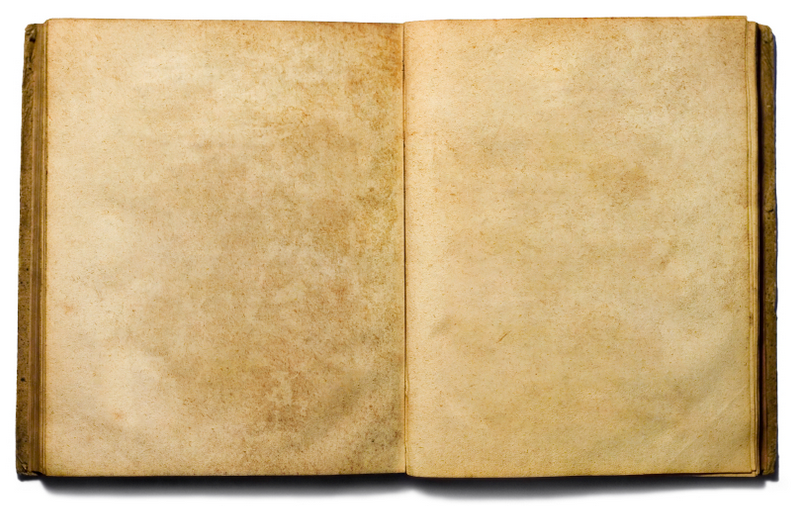
Поскольку идеи Беньямина и Адорно подробно обсуждаются в другой статье этого сборника, я кратко изложу различия между их методами. Подобно Марксу и Лукачу они считали, что капиталистическое общество пронизано товарным фетишизмом. С точки зрения Беньямина, структура товарного фетишизма заключалась в формальном соответствии между материальными отношениями и продуктами культуры. В «Пассажах», большой незавершенной книге, Беньямин приводит множество свидетельств относительно воздействия экономического развития Франции в эпоху Второй империи на поэзию Бодлера и изменение географии Парижа, регулировавшегося ритмами массового потребления. Сопоставление этих фрагментов производило "диалектические образы ", которые одновременно фиксировали коммерциализацию общественной жизни и пробуждали воспоминания о первобытном коммунизме, указывая тем самым на бесклассовое будущее. Адорно, хотя и следовал во многом за Беньямином, относился к его методу критически: простое сопоставление разрозненных фактов может привести к экономическому редукционизму; больше того, для теории диалектических образов необходимо использовать подозрительное понятие коллективного бессознательного. Лукачевская концепция общественной тотальности остается незаменимой в качестве средства демонстрации того, как товарный фетишизм формирует структуры произведений искусства, также как и предметы повседневной жизни, что и было продемонстрировано Адорно в работе Minima Moralia (1974). Тем не менее лучшие произведения модернизма с их диссонантными формами отображают страдания, причиненные человечеству и природе господствующими общественными отношениями, и содержат в себе призыв покончить с этим господством.
«История и классовое сознание» остается главным ориентиром для Адорно, несмотря на его недоверие к тотализирующим тенденциям гегелевской диалектики. Для других крупных школ марксистской критической теории положительная оценка модернизма напротив была однозначно враждебна влиянию гегельянства на марксизм. Луи Альтюссер и его последователи считали лукачевскую концепцию тотальности примером того, что они называли «экспрессивной тотальностью». В ней различные аспекты общественного целого понимаются как выражение единичной сущности. Сам Гегель рассматривал всю человеческую историю как движение Абсолютного духа к самосознанию. Лукач предложил гораздо более материалистическую теорию, в которой все разнообразие явлений капиталистического общества воспроизводит основную структуру товарного фетишизма. В результате он пришел к тому же самому экономическому редукционизму, что и теоретики Второго интернационала.
По мнению Альтюссера, аутентичная тотальность с точки зрения марксизма — это сложно структурированное целое, множество различных структур и практик. В рамках этого целого экономическая детерминация значима только «в конечном счете». Но когда Альтюссер таким образом использует формулу Энгельса, он придает ей иной смысл. В каждом обществе есть «доминирующая структура», набор иерархических отношений, в которых одна практика превалирует над другими. Экономическая детерминация в конечном счете — это отбор экономикой доминирующей практики. Экономическая причинность действует опосредованно, через структуры господства, а не через непосредственное влияние на надстройку. Отдельные практики развиваются в соответствии с их дифференциальной логикой и в пределах, установленных доминирующей структурой. Следовательно, надстройка «относительно автономна».
Как соотнести это с литературой и искусством? Альтюссер и его коллега Пьер Машрэ предположили, что взаимоотношения искусства и литературы с экономикой еще более косвенные, чем у экономики и других социальных практик. Более того, не ясно до конца, относятся ли литература и искусство к надстройке. Их социальной опорой является идеология, универсальный медиум, посредством которого, по Альтюссеру, люди «проживают» свои отношения к материальным условиям существования. Функция искусства — когнитивная: «Реальное различие между искусством и наукой заключается в том, что они по-разному представляют нам один и тот же объект: искусство в форме «видения», «восприятия» или «чувствования», науки в форме знания (в строгом смысле слова — через понятия). «Объектом» искусства является идеология. Поэтому «Бальзак и Солженицын позволяют нам "увидеть» идеологию, к которой их произведения отсылают и которой постоянно пользуются, что предполагает отдаление, внутреннее дистанцирование от идеологии, благодаря которой их романы появились на свет».
Эта версия «теории расхождения» показывает, что писатели могут выражать свои идеи не вопреки, но в
Таким образом, скрытая упорядоченность произведения менее значительна, чем его реально наличная неупорядоченность (его беспорядочность). Утверждаемый произведением порядок — всего лишь воображаемый порядок, который проецируется на беспорядок: это фиктивное разрешение идеологических конфликтов, разрешение настолько сомнительное, что об этом свидетельствует сам текст, раздираемый противоречиями и незавершенностью. Отделенность произведения от идеологии, которую оно трансформирует, обнаруживается в тексте произведения: он расколот, деформирован уже в процессе своего производства.
Перед нами триумф модернизма над реализмом. Все литературные произведения, утверждает Машрэ, даже если они имеют законченный вид, даже если они якобы соответствуют установленным Лукачем подражательным правилам, содержат в себе деформированные и рассогласованные структуры, неотличимые о тех, что можно обнаружить в характернейших произведениях модернизма. Машрэ подчеркивает, что незавершенность произведения неустранима: «книга не самодостаточна; ей обязательно присуща определенная нехватка, без которого она не могла бы существовать». Но это отсутствие не просто отсылает нас к другим текстам в бесконечной игре означающих. Напротив, «чтобы понять произведение, мы должны выйти за его пределы». Это позволяет «показать, что произведение состоит в особых откровенных (что не означает невинных) отношениях с историей». Этот процесс воссоздания «бессознательного произведения (но не автора)» не является «историческим объяснением, которое накладывается на произведение извне. Наоборот, нужно показать, что произведение расщеплено изнутри: это разделение — его бессознательное, бессознательное, которое есть история, игра истории за пределами произведения, посягающей на эти пределы».
Следовательно, разрывы внутри текста вытекают не из противоречий между литературной формой и историческим контекстом, но показывают его связь с историей. Теория Машрэ выстроена на основе психоаналитической модели: в его концепции подавляется не сексуальное влечение, но «сложно устроенная реальность, в которой люди — как писатели, так и читатели — живут, реальность, которой является их идеология». «Теория литературного производства» остается одной из важнейших марксистских попыток показать, как можно историзировать без отказа от самого текста. По крайней мере отчасти успех этой попытки зависит от согласованности и достоверности реконструкции исторического материализма, предложенной Альтюссером. Наиболее существенная сложность, связанная с теорией Альтюссера, заключается в его понимании тотальности: критики Альтюссера настаивают на том, что идея множественности относительно автономных инстанций неотличима от представления социального целого в виде совокупности отдельных факторов — против такого понимания тотальности выступали Лабриола и Троцкий. Различные «пост-марксисты» — например, Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф — утверждают, что подобный плюрализм нужно использовать, а не отвергать. Если следовать этой точке зрения, то проблема сопоставления текста и контекста просто исчезнет. Литературные формы и социальные институты поглощены множеством по сути случайных отношений, и ни одна форма мысли не в состоянии их воссоздать.
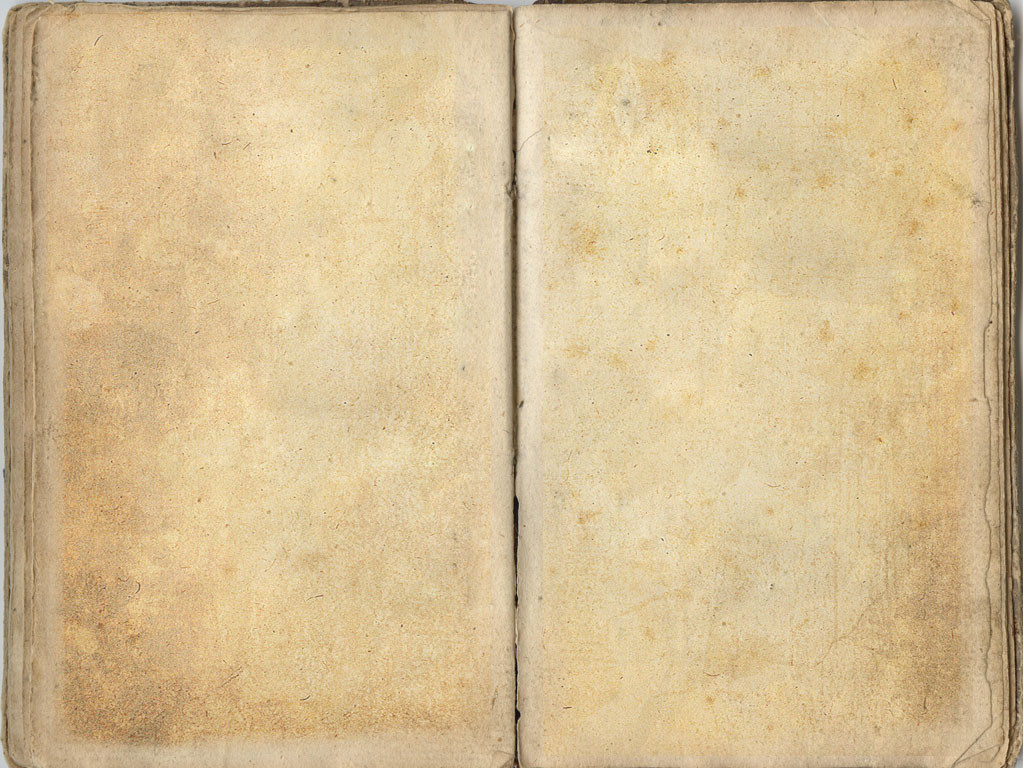
Тем не менее, наиболее интеллектуально значимым ответом на постмодерн является непрекращающийся марксистский опыт тотализации. С точки зрения Джеймисона, постмодернистское искусство лучше всего объясняется как репрезентирующее «логику культурного производства» определенного этапа развития капитализма — он называет его «поздним, мультинациональным или консьюмеристким капитализмом». Эта интерпретация методологически предполагает согласование теорий Лукача и Альтюссера. Отвергая постструктуралистские попытки текстуализации истории, Джеймисон анализирует идеи Альтюссера и утверждает, что «история не является текстом или нарративом, господствующим или подчиненным, но, как отсутствующая причина, она недоступна нам иначе как в текстовой форме». Кроме того, «разработанную в “Истории и классовом сознании» концепцию тотальности следует рассматривать в качестве «методологической нормы». Идеология по Лукачу заключается в «стратегиях сдерживания», которые «могут быть разоблачены лишь в конфронтации с идеалом тотальности, который они одновременно содержат в себе и подавляют». Такое выставление на показ ограничений, которые идеология накладывает на определяющие ее тексты, предполагает, что марксизм — "это такой тип мышления, который не знает ограничений подобного рода и который способен бесконечно тотализировать, однако критика идеологии не зависит от некой догматической или "позитивной” концепции марксизма как системы. Скорее, она просто придерживается императива тотализации».
Таким образом, Джеймисон предполагает, что «в некотором парадоксальном или диалектическом смысле можно сказать, что концепция Лукача соединяется здесь с альтюссерианским представлением об истории и Реальном как отсутствующей причине». Рациональное зерно критики Альтюссером гегельянского марксизма заключается в отказе от гомологии, установленной последователями Лукача, такими как Люсьен Гольдман, между литературными текстами и аспектами социального целого. Джеймисон утверждает, что «интерпретативное назначение структурной каузальности напротив заключается в том, чтобы видеть привилегированное содержание в разрывах и непоследовательностях произведения, т.е. в конечном итоге в определении образцового «произведения искусства» как гетерогенного и (…) шизофренического текста». Это позволяет ему не просто поддержать предложенную Альтюссером и Машрэ версию марксистской критики, но и объединить ее с постструктурализмом. Философии различия, такие, как философия Делеза, не только предполагают некоторое представление о тотальности вместо того, чтобы разоблачить его: «постструктуралистское воодушевление относительно прерывности и гетерогенности (…) — только начальный момент альтюссерианского истолкования, которое затем требует, чтобы фрагменты, несопоставимые уровни, гетерогенные импульсы текста были заново объединены, но с учетом структурного различения и детерминирующего противоречия».
Можно восхищаться блестящей виртуозностью этих положений, скрывая сомнения относительно синкретической бойкости, с которой Джеймисон утверждает, что «марксизм включает в себя другие интерпретативные методы и системы», а также по поводу приложения его методологии к постмодернизму (предприятие, полагающееся на выявление гомологий в большей степени, чем ему положено по его же канонам). Как бы то ни было, эта теория свидетельствует о жизнеспособности марксистской критики, которая не стремится избежать ни историзации, ни анализа формальных тонкостей. Как я уже показал, наиболее содержательная марксистская теория литературы стремилась разными способами сопоставить форму и контекст. Эта традиция смотрится весьма выгодно на фоне большей части культурной критики, распыляющей историю в текстуальности.
Алекс Каллиникос — британский левый теоретик и политик, член Социалистической рабочей партии, автора десятков книг, в т.ч. «Марксизм Альтюссера (1976), "Против постмодернизма: марксистская критика» (1991), «Антикапиталистический манифест» (2003).
Статья «Марксизм и литературная критика» Алекса Каллиникоса переведена Иваном Аксеновым.
Статья была опубликована в виде брошюры Свободного марксистского издательства в 2011 году.
Оригинал — The Cambridge History of Literary Criticism, IX. ed. / Christa Knellwolf; Christopher Norris. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. p. 89 — 98.