От интервенции к поступку: Елена Петровская о Pussy Riot
Приезжавший недавно в Москву Сантьяго Сьерра заявил: «I’m an actionist», «Я — акционист». Чуть позднее он добавил: «Я просто художник». Интересно, что предположение о том, что он занимается перформансом, высказанное в утвердительной форме, вызвало у него недоумение. «Что такое перформанс? — парировал Сьерра. — В английском это просто “исполнение”». Я хочу поддержать этот мотив, вернее, сохранить и по возможности развить этот настрой, или настроение. Речь идет о том, чтобы в художественном акте, отвлеченном от использования традиционных выразительных средств, выделить такую его составляющую, которая просто и коротко передается словом «действие». Творчество как действие. Или, если перефразировать это другими словами, творческий акт как поступок. Именно этому научили нас молодые женщины из группы Pussy Riot, хотя, быть может, мы до сих пор не в состоянии оценить то, что они совершили. Отчасти вопреки самой художественной видимости они совершили поступок. Именно на этом измерении их акции, которое я считаю первостепенным по своей важности, мне и хотелось бы сосредоточиться сегодня.
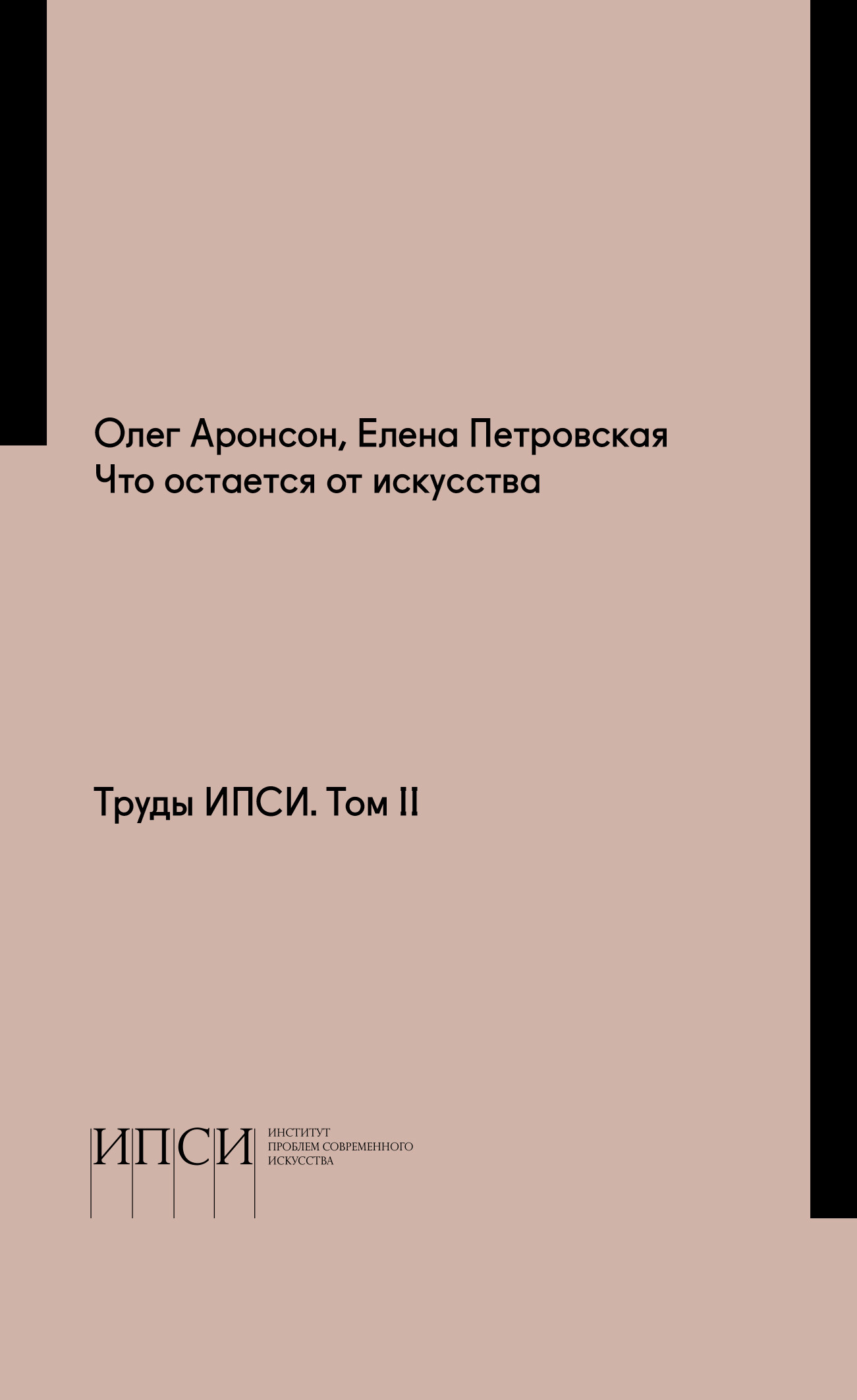
Не будет преувеличением сказать, что акция Pussy Riot в ХХС является самым значительным событием на местной сцене. Но какой именно — художественной, социальной, политической? Точно так же не вызывает сомнений, что эффект этого действия будет ощущаться еще очень долгое время — последствия его по определению отсрочены, и оно порождает цепочку действий, носящих серийный характер. Причем продолжение этой логики мы можем обнаружить как в самих действиях двух участниц группы, отбывающих тюремный срок и продолжающих активным образом сопротивляться, так и в акциях тех, кто одинаково принадлежит и не принадлежит художественной сфере. Я имею в виду художника Павленского, чьи выступления были прямо связаны с группой Pussy Riot (по крайней мере два из них — протестные акции в поддержку данной группы), но я имею в виду и те спонтанные формы гражданского сопротивления, участники которых не связывали себя открыто с Pussy Riot. И тем не менее протест на Красной площади против введения прописки или акция, стремительно устроенная на Тверской 9 мая этого года и адресованная «кремлевским оккупантам», — все эти действия выражают некую единую логику.
Конечно, первое, что приходит в голову, — объединить художественные и нехудожественные проявления под знаком политического протеста. Возможно, в наших условиях политический характер выступления и гарантирует его неподдельность. Ведь именно те, кто отваживается выйти с политическими лозунгами в публичное пространство, рискуют больше всех. Будем откровенны: тот, кто не рискует, не вызывает сегодня доверия, даже если он осознанно сохраняет за собой площадку современного искусства. Однако из этого блиц-обзора уже возникают проблемы. Например, проблема различения художественного и нехудожественного. Где проходит грань между гражданским активизмом и художественным акционизмом? И вообще, существует ли она? Достаточно ли на словах — номинально — отнести какое-либо действие к области современного искусства, чтобы оно действительно там оказалось? Что такое «панк-молебен» и что дает это словосочетание для понимания акции группы Pussy Riot?
Действительно, в апелляции к политике есть известная доля справедливости. Только саму политику в этом случае необходимо понимать определенным образом. Это не только и не столько противостояние — государству, власти и т.п., сколько обнажение самих основ коллективного существования. Мы всегда уже вместе, всегда уже связаны друг с другом. На уровне символическом эта связь воплощается в идее договора — того самого договора, который объединяет в остальном, казалось бы, суверенных индивидов. Политику в таком случае можно понимать как общежитие. И моя свобода — высшая ценность демократических обществ — возможна лишь тогда, когда ее основой, по Арендт, является несуверенность (Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина. Под ред. Д.М. Носова. СПб.: «Алетейя», 2000. С. 312 и след.). Иными словами, только в условиях плюрализма (plurality), то есть присутствия других, которые сосуществуют и действуют вместе со мною, могу я быть по-настоящему свободным. Можно сказать, что и гражданский протест и художественная акция вскрывают именно эту основу политики как

Это измерение присваивается и искажается политикой реальной. Именно поэтому политическое искусство, как и гражданский активизм, выбирает в конечном счете тот или иной конкретный лозунг. Так сделали и женщины из группы Pussy Riot. Строчка из песни, которая теперь известна всем, стала причиной их преследования и лишения свободы. Но совершенное ими действие выходит за рамки узкополитические, какой бы чудовищной ни была реакция на него со стороны властей. Я уже намекала на то, что это действие обнажает некоторую внутреннюю необходимость, которую я обозначила словом «поступок». Добавлю к этому, что поступок совершается только в сообществе людей. Это значит, что у поступка есть некоторое этическое измерение, причем судить о нем мы должны исходя из него самого. Поступок — если это действительно поступок, а не необязательное действие, каких вокруг совершается множество, — не вписывается в готовые рамки теоретического знания, и нет такого формального долженствования, которому он призван соответствовать. Этика, как и необходимость выводимы из него одного.
Хочу еще раз подчеркнуть: все, что здесь будет сказано, — это то, чему нас учит Pussy Riot. Возможно, этот урок неочевиден, но это и есть то, что нам предстоит осознать. Действие всегда опережает мысль. Действие неотменимо и самодостаточно. И оно всегда совершается в виду, то есть в присутствии, других. Это возвращает нас к названию настоящей конференции: «Этика в действии». Предлагаю прочитать его не идиоматически как «этика, приведенная в действие», а вполне буквально: «этика, рождаемая действием». Остановимся на этом тезисе подробнее.
Негероический характер поступка
Начну с того, что действие, о котором мы здесь говорим, не имеет авторства, и это несмотря на то, что его совершают конкретные люди в определенных обстоятельствах, движимые столь же определенными целями и умонастроением. Это можно понимать двояким образом. Прежде всего, мы не можем приписать поступку какого-то внешнего качества. С точки зрения качеств он остается неопределимым. Так и в нашем случае. Выступление группы Pussy Riot, условно названное панк-молебном, ускользает от
Понятно, что сами по себе эти референции ни о чем не говорят — разве что о предпочтениях участниц коллектива и о том, как они видят себя со стороны. Если же вернуться к интересующей нас акции, то мы должны признать, что все ее видимые — различимые — элементы оказываются заведомо недостаточными (дополнительными) по отношению к самому поступку. В самом деле, музыканты не торопятся опознать выступление как образец новых музыкально-акустических экспериментов (и дело здесь не в том, что российские музыканты проявили небывалый конформизм — в отличие от их западных коллег, отреагировавших не столько на музыку, сколько на преследование исполнительниц). В словах песни тоже нет претензии на то, чтобы быть поэтическим произведением. Клип как итоговый продукт, выложенный в Интернете и объединивший в себе все эти остаточные элементы образности (музыкальной, поэтической, карнавальной и проч.), сам по себе вписан в представление о новой скоростной документальности, задаваемой форматом YouTube’а. Наконец, одежда учаcтниц — балаклавы, простые яркие платья и столь же яркие колготки — это скорее намек на костюм, чем костюм в собственном (зрелищном) смысле. Все вместе, надо сказать, вполне отвечает общей тенденции современного искусства, а именно отказу от любых форм изобразительности во имя вторжения, что лучше всего, пожалуй, воплотил в себе интервенционизм как современное искусство действия.
Но даже если современное искусство и обнаруживает новую Kunstwollen (об интерпретации А. Ригля в духе Делёза подробнее см.: Rajchman J. The Deleuze Connections. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press. P. 119 ff.), выраженную в переключении на действие и отказе от всяких способов изображения (это, конечно, потребовало бы от нас дальнейших разъяснений), необходимо подчеркнуть, что поступок лишь случайным образом облекается в
Но с этим же связан и второй момент. Помимо того, что поступок не имеет свойств, он не имеет и
(При)нудительная сила
В своей ранней работе предположительно начала 1920-х годов Михаил Бахтин развивает идею о так называемой «нудительной силе» поступка (см. Бахтин М.М. К философии поступка). Ясно, что в этом слове записано долженствование, только его источником для Бахтина является не мир теоретических абстракций, не отвлеченные предписания моральной философии, возведенные в нравственный закон, а реализация моей единственности в бытии, которая из данности должна быть претворена в действие, или «поступление». Эта реализация возможна только постольку, поскольку существуют равноправные со мной другие. Конечно, в этом можно усмотреть исток диалогической концепции, принесшей славу ее автору, но попытаемся из этих рассуждений, окрашенных в неокантианские и феноменологические тона, выделить те положения, которые представляют интерес для нашей темы.
Вообще, надо признать, что попыток сформулировать самостоятельную философию поступка не так уж и много. По-видимому, в числе прочего это объясняется и тем, что поступок не требует никакого внешнего себе обоснования. Более того, разделение поступка на «его объективный смысл и субъективный процесс свершения», по выражению Бахтина, не учитывает главного, а именно «синтетической правды» поступка, проистекающей из его ответственности. Поступок ответствен. Это можно понимать как такую его характеристику, которая устраняет досадное разделение двух миров — мира культуры, где действие всегда объективировано, и мира жизни, где оно, собственно, совершается. Ответственность, по Бахтину, — это своеобразный внутренний закон поступка, благодаря которому мы можем разом отбросить представление о поступке как о
Единый план поступка преодолевает разобщенность таких категорий, как смысл и факт, общее и индивидуальное, реальное и идеальное. Более того, онтологический приоритет действия перед теоретическим установлением объясняет и то, что Бахтин называет «инициативой поступка по отношению к смыслу». Смысл образует самостоятельный и самодовлеющий мир, для которого я и мои действия случайны. Мир абстракций, или теоретический мир, остается безразличным к факту моей активной единственности в бытии — находясь по ту сторону практики, он не может дать мне никаких, в том числе и нравственных, критериев. Напротив, инициатива поступка по отношению к смыслу утверждает необходимый характер моего действия, превращает пассивную данность в то, что определяется как заданность: я не просто оказался в бытии, но и обязан реализовать свою единственность перед лицом таких же, как и я, других и в непосредственном взаимодействии с ними.
Как я уже упоминала, Бахтин пытается сформулировать новую феноменологию поступка (эта попытка осталась у него незавершенной). Отсюда его заявка на создание первой философии, опирающейся на

Наконец, мне хотелось бы еще раз заострить внимание на долженствовании, или ответственности, как внутренней мере самого поступка. Для Бахтина долженствование связано с тем, что он определяет посредством известной формулы «не-алиби в бытии». Это и есть принудительная сила, заложенная в самой моей единственности: моя единственность требует от меня поступка (приравненного к жизни в целом) как формы своего осуществления. Долженствование, подчеркиваю, неотделимо от поступка. Поскольку Бахтин имеет дело с нравственным субъектом, он утверждает, что обязывает не содержание обязательства, а факт его признания, или же подпись, которую я ставлю под ним. Но это «бессодержательное» обязательство и есть принудительная сила, заставляющая действовать. Можно сказать, продолжая эту мысль, что я действую тогда, когда встречаюсь с силой обязательства, не имеющего никаких формализованных эквивалентов — для меня оно выступает непреложным предписанием. Иными словами, я действую, когда закон поступка становится законом для меня. Однако нет такого свода, которому он, этот закон, принадлежал бы заранее. Скорее, это отпечаток необходимости и неотвратимости самой жизни, отзывающейся в нас эхом принуждения (читай нужды) до всякого императива.
Замечу, что в повседневной жизни мы узнаем о таком принуждении через его отрицание. Официальная идеология только и занята тем, что отрицает принудительную силу поступка, видя в нем лишь проявление зависимости от
Этика нового
«…[C] точки зрения автоматических процессов, вроде бы однозначно определяющих мировой ход вещей, всякое деяние представляется каким-то курьезом или чудом», — повторяла Ханна Арендт вслед за Локком. Действительно, новое — это то, что вырывается за рамки теоретизирующего и, шире, рационального мышления и утверждается только единственным способом, а именно через поступок. Я не берусь сказать в нескольких словах, что именно повлек за собой поступок группы Pussy Riot, но так или иначе как симпатизирующими, так и ярыми противниками он воспринимается как точка необратимости, point of no return («…[С] точки зрения искусства и политики их [Pussy Riot] акция — это точка невозврата» (Павленский П. «Меня как действующую единицу породил карательный процесс над Pussy Riot»). И эта необратимость только подчеркнута, оттенена тюремным заключением. Можно вспомнить слова Жижека из его переписки с Надеждой Толоконниковой: «Выступления Pussy Riot не могут быть сведены к одним подрывным провокациям. В основе динамики их действий — внутренняя устойчивость твердой этико-политической установки» («The Pussy Riot performances cannot be reduced just to subversive provocations. Beneath the dynamics of their acts, there is the inner stability of a firm ethico-political attitude»). Жижек поясняет, что эта установка противостоит «циничному оппортунизму» (opportunist cynicism) современного капитализма, показывая тысячам людей, что
В этом высказывании, в котором упоминается также и «общее дело» (common cause), несомненно, подразумевается альтернативный образ общественной жизни. И даже если в победу нового строя сегодня верится с трудом, сама мечта об ином устройстве общества остается действительностью. Говоря более обобщенно, соприкасаясь с новым, открывая новое, поступок тем самым встает на сторону утопии. Только надо понимать, что утопия в современном мире — это критерий изменения самого социального воображения. Там, где в нем случается сдвиг, открывается простор и для политически успешных действий. Тонкая ткань воображения зондируется и одновременно видоизменяется точечным уколом поступка. Итак, для нового нет никаких причин, и все же оно происходит. Новое и есть поступок во всей его исторической конкретности, во всей его единственной незаменимости. И новое — это те последствия, которые он запускает в ход, притом что их диапазон и точное развитие предсказывать не представляется возможным.
Но готовы ли мы принять это новое во всей необозримости его последствий? Очевидным образом нет. С другой стороны, существует понимание того, что рациональное мышление не справляется с реальностью поступка. Бахтин не только сетует на оторванность теории от мира практической жизни, — свой упрек он адресует прямо различным формам моральной философии, которые либо провозглашают закон до поступка, либо уравнивают абстрактный принцип законосообразности (как это видно у Канта) с живым долженствованием. Невозможно из абстрактных предписаний вывести поступок, как невозможно провозгласить его априорный всеобщий закон. Но только абстракцией — отвлечением, умозрением, набором культурно одобренных кодов — мы и руководствуемся в повседневной жизни. Более того, мы проецируем на поступок готовое знание, лишая его той непредсказуемости и открытости, которая со своей стороны требует от нас уже особого, не обусловленного чем-либо гостеприимства. Поступок словно нас предупреждает: вместо того чтобы проецировать на него свои взгляды, правила и ожидания, мы должны учиться у него самого — учиться быть другими, учиться по-другому понимать и говорить.
В заключение я все же позволю себе вернуться к искусству. Обращаясь к опыту искусства, Жиль Делёз любил повторять фразу, заимствованную им у Клее: «un peuple qui manque». Это та аудитория, публика (у нас часто переводят дословно «народ»), которой пока еще нет, но которую создает произведение искусства. Для Делёза произведение искусства напрямую связано с экспериментом: оно и обнаруживает новое, в том числе и в нас самих, даже если мы ничего не знаем об этом. Но произведение искусства не находится в безвоздушном пространстве. «…[С]уществует глубочайшее родство между произведением искусства и актом сопротивления» («…[I]l y a une affinité fondamentale entre l’oeuvre d’art et l’act de resistance») , — заявляет Делёз. Мы могли бы сразу вспомнить о том беспримерном сопротивлении, человеческом и гражданском, которое все это время демонстрируют Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Оно, замечу, не случайно, но выступает логичным продолжением их
Deleuze G. Qu’est-ce que l’act de création? Conférence donnée dans le cadre des “Mardis de la Fondation”, le 17 Mars 1987.
Есть также представление о том, что новое, рождается ли оно из поступка или из сопротивления как поступка, является вызовом человеческой конечности. Обреченные на смерть, люди утверждают себя, когда начинают (это и вправду похоже на чудо) — начинают что-то новое. Новое и есть способ развертывания по-настоящему человеческой жизни. Здесь, в этой точке, соединяются вместе искусство, поступок и сопротивление. Я хочу закончить словами Надежды Толоконниковой, произнесенными ею на судебном заседании в Мордовии в апреле этого года: «Мы вновь в России оказались в таких обстоятельствах, что сопротивление, и не в последнюю очередь сопротивление эстетическое, оказывается нашим единственным нравственным выбором и гражданским долгом» (Цит. по: Гессен М. Суд как миссия. Художественная // The New Times. 12 авг. 2013. № 24 (292)). По-видимому, это именно то, что участницы Pussy Riot и сделали для нас необратимым: соединение творчества, сопротивления и действия.
Этот текст создан на основе доклада, прочитанного на Международной конференции «Перформанс: этика в действии» (Москва, Центр современной культуры «Гараж», 12–14 декабря 2013 г.). [Впервые напечатано в: Художественный журнал. 2013. № 3 (91). С. 18–25.]