Поговорим о независимости театра?
Беседа Сергея Васильева с Юрием Муравицким и Всеволодом Лисовским об эстетической «революции» и государственной реакции
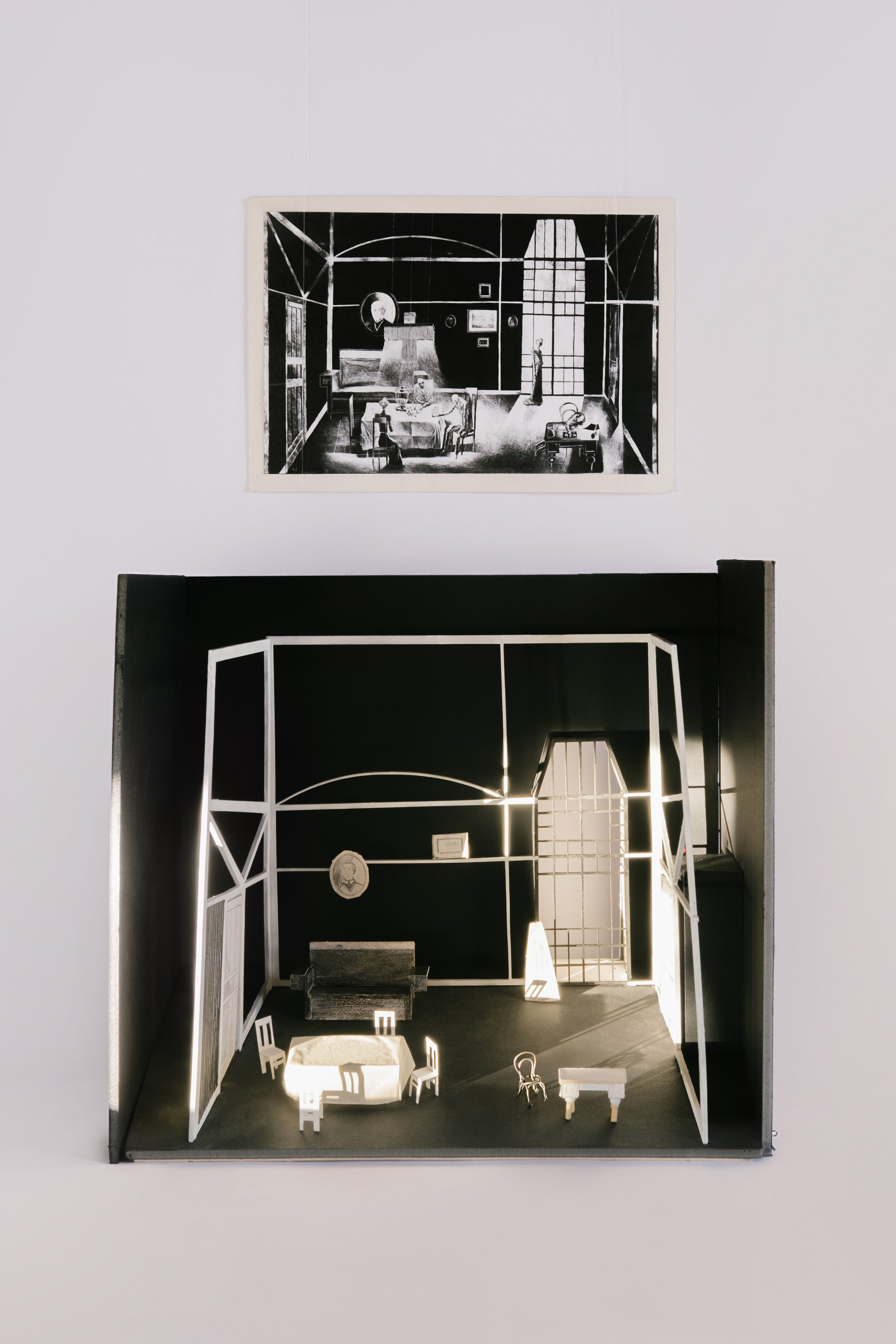
Если описывать театральную ситуацию в России последних лет, главными словами будут «революция» и «реакция».
Театральное искусство циклично. Безвременье, периоды непродуктивные и неинтересные сменяются эстетическими вспышками. Примерно с 2010 года российский театр стал невероятно продуктивным. Произошел переход от эксплуатации традиции русскосоветской психологической школы к вполне успешным экспериментам с разными современными эстетическими формами. Появились новые имена и новые типы спектакля, выросло чрезвычайно амбициозное и раскрепощенное поколение режиссеров, да и режиссеры зрелые вполне художественно состоялись.
Театр — дорогая и сложная вещь. Описанные эстетические процессы осуществляются в организационных и финансовых рамках системы государственного финансирования учреждений культуры. Простой пример: новые московские институции «Гоголь-центр» и электротеатр «Станиславский» по документам — ГБУК «МДТ им. Н.В. Гоголя» и ГБУК «МДТ им. К.С. Станиславского» соответственно. Независимые и междисциплинарные проекты, а тем более институции — относительная редкость (у них чрезвычайно мало возможностей для финансирования).
Что выходит из взаимодействия государства, проникающего в культурную жизнь, и театра, переживающего очередной период творческого поиска?
Это прекрасно показал недавно завершившийся процесс против создателей проектов «Седьмая студия» / «Платформа» Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и др. Это не единственный пример столкновения эстетической «революции» и государственной реакции, которое обусловлено почти полной зависимостью отрасли от государства.
Существует ли выход из подобного положения?
В октябре 2019 года театральная Москва обсуждала появление новой институции — «Союза независимых театров». Из затеи этой ничего, кроме потраченных сил и нервов, разумеется, не могло выйти. «Независимый театр» — оксюморон; театр онтологически зависим от социума. Театру необходимыне только идеи и принципы, но и организационныеи кадровые ресурсы — дело упирается и в деньги,и в модели работы. Для независимого, то есть зависимого не от государства, театра в России сейчас модели работы нет, как нет и денег. Но вопрос о возможности независимого театра дает повод поговорить с двумя интересными и близкими мне собеседниками — режиссерами Юрием Муравицким и Всеволодом Лисовским, которые были самыми заметными именами в этом движении.
О дефиците открытости и идей Юрий Муравицкий
С.В.
Как видит российский театр, если можно говорить о нем как о едином целом, режиссер, являющийся, по своему самоощущению, «молодым и независимым»?
Ю.М.
Есть два важных момента, которые я понял про российский, точнее, постсоветский театр. Во-первых, он по своей сути глубоко провинциален. Все выдающееся, что в нем есть, всеми силами вырывается из этой провинциальности. А это не так просто. Если театральная среда в принципе провинциальна, то любой театр, который пытается вырваться из этого контекста, сталкивается с сопротивлением. Среда говорит ему: «Нет, ты куда, ты же здесь, с нами». И обрастаешь всей этой семейственностью. Все друг друга знают, как в большой или маленькой деревне.
В
И другая: еще в советское время и, может быть, до него в нашем театре произошла страшная подмена. Почему-то все решили, и широкая театральная общественность в том числе, что театр — искусство аполлоническое. И все ждут от театра колонн, возвышенности — а театр говорит про низкие истины,а не про возвышающий обман. Это дионисийская культура. Хтоническая энергия, низовая природная сила. Амплитуда колебаний между жизнью и смертью. Дионис — противоречивый бог, в котором изначально заложена диалектика.
Если говорить про природу театра, то для меня неоспоримо, что театр — это онтологически «левое искусство». Театр — изначально борьба низов с верхами. Абсолютно левая идея. Низы противопоставляют хаос, низовую, смеховую культуру, низовую энергию — все что угодно — порядку, который насаждается сверху. Театр — шутовская, карнавальная, бешеная энергия.
А у нас — абсолютный культ не существующего в природе аполлонического театра.
С.В.
Когда ты говоришь о провинциальности, что ты имеешь в виду? Я слышу здесь две вещи: во-первых, некое постоянное ощущение собственной вторичности по отношению к тому, что делается «там». А второе — провинциализм как некая система отношений, когда внутри нашей касты отсутствует честный открытый диалог. Есть демонстрируемое братство, интриги, группировки, но нет четкого разговора о том, что мы, собственно, делаем.
Ю.М.
И то, и другое. Это проявления одного и того же: когда мы ругаем все европейское или когда все, что европейское, — хорошо, а все наше — плохо. И да, отсутствие нормального дискурса.
Я дважды был на Эдинбургском фестивале. Один раз как гость, второй — как участник. Мы привозили спектакль по книге Маши Алехиной Riot Days. Один журналист написал о нас в приличном издании, поставил пять звезд и объяснил, что это потрясающий спектакль и он просто супер, мощно, powerful, amazing и все такое. Другой журналист про тот же спектакль пишет, что это спекуляция на протесте, ставит две звезды и кроет так, что дым стоит. Каждый своими рецензиями, оценками-звездами от 2 до 5, как в школе, заявляет: «Я ни на что не претендую, это моя личная оценка». Из миллиона личных оценок складывается более-менее объективная картина происходящегона этом фестивале. Я не хочу говорить «рынок», не люблю это слово. Но вот пример, что все развивается, как и должно.
С.В.
Но самое главное, что, в отличие от России, где мы все обязаны дружить с
Ю.М.
Они просто делают свою работу. Я свою — они свою. У меня нет никаких претензий ни к первому, ни ко второму. Дружить меня это не обязывает совсем.
С.В.
Театр как система существует благодаря деньгам государства и точечным вливаниям некоторых фондов. Тебе не кажется, что, пока остается централизованная система распределения денег, такие процессы формирования и борьбы иерархий-тусовок неизбежны?
Ю.М.
Согласен. Я все критикую, но не вижу из этого выхода. Говорю: «Я независимый режиссер, руковожу независимым театром в
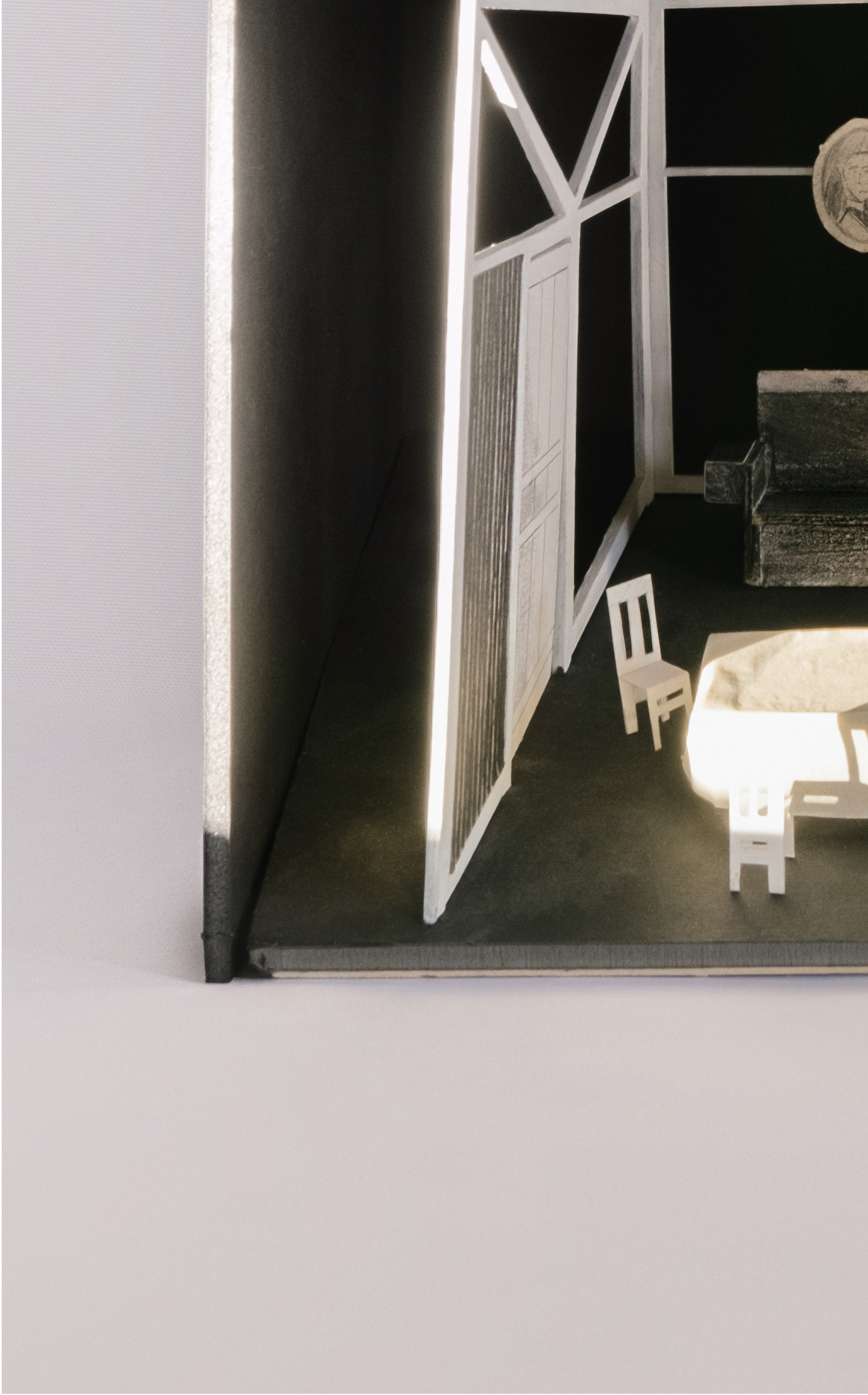
С.В.
Я как режиссер твое желание очень хорошо понимаю: оборудованная сцена, бюджет на сценографию и костюмы, техника, полноценный процесс выпуска…
Ю.М.
Да. Мне сорок два года, и я хочу нормальных условий, чтобы реализовать свои замыслы и т.д. Так или иначе понимаешь, что
Помню, Елена Анатольевна Гремина[2] очень болезненно воспринимала, что все, кто начинал в «Доке»,в итоге перестают там работать. Почему это происходит? Потому что мы живем в мире, в котором приходится переставать работать в «Доке», чтобытебя не считали человеком, застрявшим в маргинальном пространстве. А значит, есть очень четкое представление, что как бы мы ни уважали «Театр.Doc», который получает различные призы на конкурсах,в том числе «Золотую маску», все понимают, что есть «Док», а есть большие репертуарные театры в Москве. И если хочешь реализовываться, должен встраиваться в систему.
Здесь очень четкое разделение. А в здоровом обществе все должно быть перемешано. Надо встряхнуть это все.
С.В.
Невозможно же все время делать спектакли без денег.
Ю.М.
Я пробовал уйти в альтернативную среду. Например, сделал несколько проектов на «Архстоянии».У нас был театрально-архитектурный проект «Кибитка 32053». Одновременно дом, средство передвиженияи театр. Одно стекло витражное, рампа. Фактически, это сцена. Мы ее сделали для фестиваля, и я в этом театре-кибитке поработал как режиссер, в
Еще были проекты на
С.В.
Вы свои деньги вкладывали?
Ю.М.
Пару раз обжегся: был проект «Порнография». Единственный проект, куда я вложил свои деньги. Они просто улетели в трубу, и с тех пор я зарекся.
С.В.
Честно говоря, не очень понятно, как вообще профессионалам жить внутри театральной отрасли.Я только что закончил «Мастерскую индивидуальной режиссуры» Юхананова. У нас был месячник премьерных показов. Ты был на моем «Борисе Годунове», это длинная, сложная работа (двадцать два человекав спектакле, три часа). Всё, разумеется, без денег.У нас были сумасшедшего качества работы, сделанные буквально на коленке. Это крутая школа для режиссера, но никто не захочет в таком подвиге жить всю жизнь. Режиссерами-то мы стали, но что с этим делать — непонятно. Хотелось бы, чтоб государственные театры были более открыты для новых режиссеров по неким понятным единым правилам.
Ю.М.
С одной стороны, я сейчас понимаю, что спасение — гранты. Но их должно быть очень много. Если их будет много, так или иначе часть из них будут независимыми. А кто сейчас дает гранты? Союз театральных деятелей (СТД), Фонд Прохорова, Фонд Потанина — всё, по-моему. Из того, что можно вспомнить. Есть еще президентские гранты, но это другая история. Но вот пример: культура в маленькой прекрасной Эстонии. Там есть организация «Капитал культуры».Я сделал в Таллине три проекта. Начиная с 2013-го до 2019 года. Всё на деньги «Капитала культуры». При том, что я иностранец. Понятно, что в команде всегда есть эстонцы, с которыми мы это делаем. Но все равно — пожалуйста, пишите заявки. Я к тому, что «Капитал культуры» — государственное ответвление, которое распределяет культурные деньги на проекты, и там очень просто все устроено.
С.В.
Система простая и открытая. Понимаешь интерфейс.
Ю.М.
Хотя у них есть стационарные театры, городские, государственные, национальные. Русские театры в Эстонии тоже есть, получают дотации. И при этом есть «Капитал культуры», он дает деньги людям, которые хотят что-то сделать. Это очень понятно и открыто. И на эти деньги можно сделать проект, в отличие от денег СТД.
Контроль государства — опасная вещь в нашей ситуации. Потому что сегодня государство думаетв одну сторону, завтра в другую. Ты вроде договорился с людьми, все вроде бы нормально, как Кирилл Серебренников, а потом раз — и все поменялось. Это страшно. А все европейские цивилизации, в том числе британская, построены на том, что есть вещи, которые не меняются веками.
Наш театр — некий реликт системы, которая транслирует иерархичность, закрытость как свои принципы. Эти принципы воспроизводятся. Все люди, которые работают в этой структуре, конечно же, против того, чтобы переходить на контракты, делать театр открытым.
С.В.
Мы про эстетическую сторону вопроса вообще не говорим…
Ю.М.
Это в том числе про эстетическую сторону вопроса. «Машкины красные сапоги». Театр теперьв интернете, там всю палитру можно увидеть. Машка в сапогах приезжает с района. Из райцентра приехала Машка в красных сапогах. В селе мода на красные сапоги, а
С.В.
И когда ходишь в наш «современный театр», видишь некую российскую адаптацию одного европейского режиссера, другого.
Ю.М.
Да. Людей, которые умудряются делать что-то уникальное, можно на пальцах одной руки пересчитать. Коляда и еще, может, два-три имени. Все остальные — бесконечное калькирование. Более или менее талантливое. Но удивляет другое: насколько все радуются, когда видят что-то, похожее на Европу. Говорят: «О, это как у Остермайера десять лет назад». Боже мой, какое счастье!
С.В.
Про драматургию российскую что думаешь? Ты ее вообще слышишь? Драматургию на русском языке.
Ю.М.
Я сейчас буду брюзжать, Сереж. Боюсь, что в этой
оценке современного театра я буду как старик, который: «Вот раньше было лучше». Я хожу на «Любимовку», и мне скучно. «„Сереж, сходи за хлебом?“ — „Блин, у меня нет денег“. — „Блин, я уже ходил, давай ты сходи“». Вот это все, понимаешь. Господи, двадцать лет одно и то же, ребят. Может, хватит уже? Но при этом возникают какие-то метамодернистские штуки. Вот это меня «впирает» дико.
С.В.
Например? Вот Кети Чухров, которая вообще не из этой среды.
Ю.М.
Ну извини, Кети Чухров — это философия. Пока наш театр осознает, что все передовые театральные идеи — суть левые, пройдет еще двести лет. На наших могилках уже кресты сгниют. Я недавно это объяснял на лекции. Студенты говорят: «Расскажите нам про Брехта. Мы что-то читаем и ничего не понимаем».Я говорю: «Друзья, надо отталкиваться от того, какие убеждения были у этого человека. Все из этого исходит. Вопрос в том, что человек хочет сказать. А как он будет говорить — уже второй момент».
С другой стороны, вот этот метамодернизм — очень грустный, пронзительный и постироничный. Но его не так много. Копаешься в общей массе драматургии и в одной из пяти пьес начинаешь слышать это звучание. Допустим, пьеса Наташи Зайцевой «По грибы» или Дарьи Слюсаренко — «Семью восемь». Когда есть какая-то личная боль, и она сквозит. Нов целом нет такого, чтобы взрывы, как у Клавдиева «Медленный меч» или как Вырыпаев новый. Может, я не так много слушаю и читаю новых пьес. И
С.В.
Возможно, в дефиците не пьесы, а идеи?
Ю.М.
Идей, как это ни странно, дефицит. Возможностей стало больше, а идей не прибавилось.

Театр прямого действия
С.В.
Ты однажды говорил, что театр всегда был таким местом, где предлагаются модели мира. Приходит человек, создает свой театр и предлагает свою модель мира.
В.Л.
Да вообще любое искусство так всегда работало, просто я все это дело очень не люблю.
С.В.
Думал, что ты сейчас мне расскажешь, как пришел в театр и понял, что все модели мира никуда не годятся, и стал свою делать, а ты в принципе модели мира отрицаешь?
В.Л.
Любая деятельность, объединенная общими законами, — в том числе и театр, и любое другое искусство — только отрасль одной большой когнитивной деятельности, которая связана с моделями постижения/непостижения мира.
С.В.
Ты вообще как оказался в театре и зачем? Когда читаю тебя в Facebook, слышу человека, который достаточно успешно занимается театром и при этом говорит: «Театр — это полнейшая хрень, бесполезная, ненужная».
В.Л.
Если чем-то глубоко занимаешься, понимаешь, что то, чем ты занимаешься, — полная хрень. Если нет такого ощущения, вывода два: либо ты недостаточно эффективно этим занимаешься, либо ты — просто дурак. Никаких намерений оказываться в театре у меня не было. Совершенно случайно: «„Давай сделаем спектакль?“ — „Ну, давай!“». Сделали.
С.В.
Предмет нашего разговора состоит в том, что мы имеем дело с некой очень странной темой, называемой «российский театр».
В.Л.
Российский театр — это, безусловно, отдельный феномен, имеющий свою историю, свою специфику. Больше сказать ничего не могу, потому что я практически ничего не видел и совершенно ничего про него не читал. В чем специфическое отличие российского театра от занзибарского — понятия не имею. Об обоих имею одинаковое понятие. В российском я хотя бы имена знаю некоторые, а о занзибарском даже предположений нет. Моя коммуникация с театром сводится к тому, что в момент, когда я неожиданно для себя обнаружил, что театр — это сфера моей деятельности, я начал гонять в мозгу мысль о театре как идее. Вот и все.
С.В.
И что такое театр как идея? В чем она?
В.Л.
Я пришел к выводу, что наиболее точным синонимом слова «театр» является слово «херня», потому что и тем и другим можно описать абсолютно любой феномен. То, чем я занимаюсь, — это лабораторное пространство для создания моделей коммуника-ции с действительностью. Еще люблю другую шутку: «Театр — это такая лаборатория, куда белые мыши приходят сами и иногда даже несут бабки». Русский театр для меня — что-то о красоте, добре и правде… Все эти слова я слышать не могу… Поэтому, видимо,у меня просто нет коммуникации с этой субстанцией…
С.В.
То есть ты считаешь, что российский театр весь сидит на этой старой, патриархальной, традиционной хрени?
В.Л.
При степени моей осведомленности о феномене российского театра я вообще не имею никакого права делать предположений о том, чем они там занимаются.
С.В.
Исходя из всего этого ты — идеальный случай независимого режиссера. Независимого не только организационно, но и идейно. А как складывается твой производственный процесс? Ты не привязан,как я понимаю, ни к одной площадке, ты в полном смысле — независимый режиссер. Зарплату тебе никакие институции не платят, и работаешь ты с
В.Л.
Пишу заявки на гранты, получаю их… Понятно, что гранты и билеты не покрывают реальных расходов на производство. Выходим из положения, используя рабский труд волонтеров. Мне что-то хочется сделать, я и делаю.
С.В.
Часто пишешь заявки на гранты?
В.Л.
Я бы еще чаще писал, просто адресатов ограниченное количество в нашей стране.
С.В.
А тебе не было трудно писать заявки? Ну, там, синдром самозванца и тому подобное?
В.Л.
Если изначально считаешь себя честным человеком в белом — это проблема, но я себя к таким людям никогда не относил. Я всегда относил себя к категории людей незаконопослушных, мягко говоря. Поэтому синдром самозванца…
С.В.
Ты, как и я, понимаешь, что театр — некая афера…
В.Л.
Да, это вообще афера… Дико режет слух, когда меня называли режиссером. Если честно, я на это слово уже отзываться стал… Хотя режиссером себя не считаю, потому что режиссер — агент профессиональных навыков и
С.В.
«Режиссер» — это человек, который в определенной, очень отработанной модели доносит нечто подчиненным ему артистам и другим людям, плюс — некая мифологическая фигура Творца с большой буквы «Т».
В.Л.
Давай немножко издали. Сфера искусства в экономическом смысле — один из самых устойчивых пережитков Средневековья. Здесь сохранился средневековый цеховой способ производства… «В нашем цехе», «цеховая солидарность» — язык это вполне фиксирует. Преемственность, передача навыков, инициация. А так как я счастливо миновал всю эту шнягу, мое тщеславие простирается на то, чтобы производить артефакты, соответствующие высоким цеховым стандартам. Я как раз человек вполне постиндустриальный, меня интересуют технологии, которые вырабатываются или не вырабатываются в ходе моей работы.
С.В.
Ты же себя вообще не режиссером, а «комиссаром» называл. Что вкладывал в это понятие? Что расстреливать кого-то будешь, или здесь
В.Л.
Комиссар… Я не против того, чтобы кого-то расстреливать — в другом контексте и
С.В.
Все, что я знаю про твои спектакли (в одном даже сам участвовал), — это все время некий челленджв смысле размытия границ театра как такового. Этим сейчас многие занимаются, но что в тебе интересно — ничем другим ты не занимаешься никогда.
В.Л.
Так как я не оброс мифологией театральной традиции. Исходного намерения прилагать специальные усилия, чтобы делать именно «театр как театр», у меня нет. Если, допустим, театральное сообщество вдруг собралось и сказало бы: «Лисовский, то, что ты делаешь, — это не театр», я ответил бы: «Ну и пожалуйста»… Если мне будут говорить, что это какая-то херня, я соглашусь.
С.В.
Во всяком случае, то, что ты делаешь, — переосмысление того, как возникает структура действия. Поэтому здесь есть некий театр, люди для чего-то общего собираются. Но то, что они делают, не прописано заранее драматургом. Это выясняется участниками, дается самой жизнью. Можешь рассказать о той модели, которую сейчас разрабатываешь?
В.Л.
Будет событие под названием «100 дней». Такой жанр я изобрел — «Тотальный спектакль», а может, и не изобрел… Всегда сложно переоценить степень своей темноты… Это будет сто дней в разных локациях города, куча каких-то происшествий, которые будут складываться в различные линии. Будет бесконечно порождаемый многими авторами поток событий, иногда складываемый восприятием в нарративы. При этом зрители даже теоретически будут не в состоянии увидеть все. Они в любом случае увидят фрагмент. Действия будет слишком много, оно будет слишком спонтанным, чтоб увидеть его целиком, предсказать или осмыслить какой-то месседж.
С.В.
Очень интересны твои работы «Акын-опера» и «Неявные воздействия». Расскажи, пожалуйста, о них.
В.Л.
«Акын-опера» — вообще первый спектакль, который я в жизни сделал… Это что-то инклюзивное. Я делал его не для инклюзии, а для эксплуатации.У меня возникают мечты насчет какой-то социальной категории, что ее можно использовать в целях мировой революции. Начинаю работать. Заканчивается все разочарованием. Я работал с мигрантами, работал с бомжами… Вчера решил делать «Государство» Платона с офицерами силовых структур.
С.В.
Такая инклюзия мне нравится.
В.Л.
Я не очень добрый человек и никого своей жалостью оскорблять не буду. Меня упрекали в колониализме. Видимо, есть. Безусловно, выступаю в качестве эксплуататора.
С.В.
А «Неявные воздействия»?
В.Л.
Это принципиально другая история. Не столько спектакль, сколько попытка повлиять на
С.В.
Как это было сделано?
В.Л.
Набор фрагментов различных текстов, достаточно случайных, из разных источников. Набор этюдов…В каждом — зона для актерской импровизации. Группа людей движется по городу по маршруту, который случайно в процессе определяется. Структура играемых номеров тоже случайно определяется.
С.В.
Такая чисто импровизационная структура, в отличие от Rimini Protokoll, где люди ходят по жесткому сценарию.
В.Л.
Да, и там они ходят за
Это статья из книги «Одновременность неодновременного». Читайте другие статьи в коллекции на syg.ma.
Сергей Васильев
Артист и шоумен («Кабаре Безумного Пьеро»), актер и режиссер (электротеатр «Станиславский»).
Юрий Муравицкий
Режиссер, драматург, актер, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премий Herald Angel Award и Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation & Playing with Form на Эдинбургском музыкальном фестивале Fringe.
Всеволод Лисовский
Театральный режиссер и продюсер, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».
Примечания
1. На момент публикации ростовский театр «18+», к сожалению, прекратил свое существование. — С.В.
2. Режиссер и драматург, основатель «Театра.Doc». — С.В.