Выжить в русской литературе: Полина Барскова о книге Олега Юрьева «Неизвестные письма»
В издательстве Ивана Лимбаха вышла книга Олега Юрьева «Неизвестные письма», состоящая из трех воображаемых писем. Публикуем рецензию Полины Барсковой.
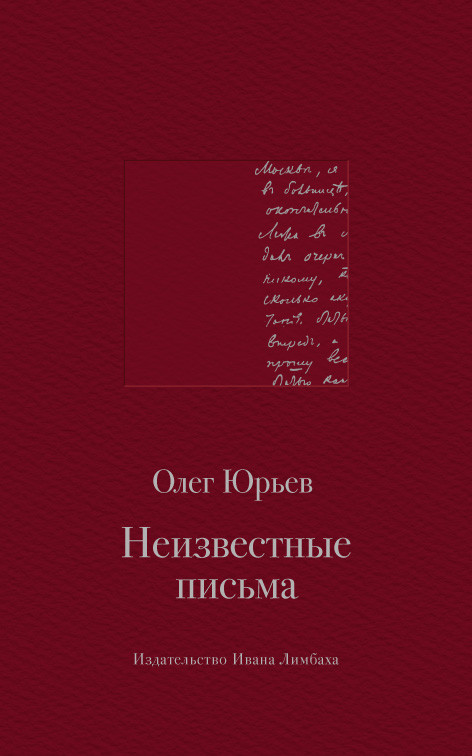
Книга Олега Юрьева устроена просто и изящно, читателю удобно в нее войти, удобно в ней быть, поначалу из нее выходить неохота, а потом, когда читатель уже достаточно соединился с происходящим в книге, оторваться сложно, потому как обнаруживается эффект прирастания (так в детстве, на слабо ты отваживался лизнуть январские школьные перила, и скоро становилось понятно, что отдирать язык придется уже с кровью).
Книга состоит из трех воображаемых писем. Писем, которых не было. Каждое из них «написано» литературным неудачником литературному удачнику: Якоб Ленц пишет Карамзину, Иван Прыжов —Достоевскому, Леонид Добычин — Чуковскому. Таким образом задается система координат: одним из главных вопросов становится вопрос канона, литературной удачи и неудачи, вопрос, почему одни писатели приходятся более к своему времени, а другие менее, оказываясь в нем чужестранцами, приживалами, бедными родственниками, понуждаемыми писать длинные письма, полные жалких слов, которые, скорее всего, так и останутся непрочитанными, нераспечатанными, и главное — ненаписанными.
Книга эта полна знания и ума, доброты и такта. Юрьев выбирает в адресаты, собеседники своим протагонистам фигуры огромной сложности, огромного масштаба. Карамзин, Достоевский, Чуковский — трагические творцы, сумевшие заставить свою эпоху не только прислушиваться к себе, но говорить своим голосом. Никакие пытки, унижения и сомнения не заставили их отвлечься от главной задачи: выжить в самой сердцевине русской литературы, для этого ни за какой ценой они не отказывались постоять. Но их истории, их роли преломляются в книге Юрьева через зеркальные поверхности совсем иного рода. Авторы придуманных им писем схватки с историей (литературы и просто) не снесли. Они навсегда остались на ее полях, в ее складках и трещинах, известные лишь гурманам и (за)знайкам.
Так проявляется второй острый вопрос, которым строится эта книга: что такое литературное знание? Зачем оно, как оно может служить и кому?
Юрьев, настойчиво, но ласково, как лекарство — болезному, предлагает массу, прорву литературных фактов и подробностей: в этой книге оживают эпохи, по крайней мере на время чтения притворяются живыми. Это ощущение сходно с описываемым одним из адресатов неизвестных писем: Чуковский в своем блестящем и обо всем, о чем возможно, умалчивающем, очерке о Тынянове описывает граничащее с ужасом удовольствие тех, кто Тынянова слушал. По Чуковскому, Тынянов мог изобразить повадку незадавшегося декабриста, походку царскосельской кокотки, мог предположить зябь и тревогу какого-нибудь ничего не достигшего наводнения.
Что приводит меня к разговору о третьем письме в этой книге, о городе водных и ложных стихий. Кто любит и знает золотые и позолоченные города и века более меня, скажет о том, как Юрьев обживает их, а я по привычке отправлюсь в Ленинград, на сей раз в его понимании: в Ленинград 1930-х, той поры, которая казалась худшей тем, кто еще не знал, что все худшее впереди.
В этом, конечно, и заключаются искус и радость тех, кто высоко сидит, далеко глядит из будущего, тех, кто властен задавать вопрос «а если?». Вопрос, очевидно, некорректный, и очевидно, правильный, полезный для понимания, вопрос-фонарик, с помощью которого мы можем заглядывать в потайные, неизвестные места истории.
Хотя что это значит неизвестные? Те, которых мы не знали или не хотели знать? Юрьевский Добычин отказывается исчезать в ленинградских водах после позорища и побоища, устроенного ему лучшими умами города: он прячется в пригороде. А что случилось с ленинградскими пригородами пятьлет спустя после возможно смерти Добычина, очень даже известно. Так Добычин, как и значительная часть русскоязычной территории мира, оказался под немцами.
Мы не знаем этого или не хотим знать? И когда на страницах его письма появляется мой личный любимый поэт, «красавец с мужественным лицом», о судьбе которого мои друзья-знайки говорят напряженно, глухо, потому что среди слов, которые не принято произносить вслух, слова «оккупация» и «коллаборация» до сих пор занимают особенное, пикантное место. Тень подозрения в сотрудничестве пала на Андрея Егунова: но ведь тени сами по себе никуда не падают, это сильнейшие (обладающие способностью к выживанию и упрощению) устраивают свои суды. Суд над Добычиным, суд над Егуновым. Юрьев, используя придуманную им другую судьбу Добычина как батискаф, погружается на глубину, где ему удается рассмотреть неизвестное никому, кроме него, пристрастного защитника на всех этих бесстыдных в сущности судах, которые сытые, безопасные, живые люди творят над мертвыми людьми в беде.
Итак, Юрьев допускает, что Добычин не умер. Но не в смысле, что не умер тогда (когда должен был умереть), а не умер вообще, оказался не то чтобы бессмертным, а не способным к смерти, сродни вампирам и зомби. Так и пишет по сей день свое письмо Чуковскому, которому как раз умереть удалось вполне, тревожит его своими вопросами и просьбами. Когда же он уже успокоится? Не мною сформулирована мысль, что нарратив советской истории есть нарратив готический. Мы живем, под собою не чуя страны, потому что нам угрожает прошлое этой самой страны, которое мы всеми силами стараемся не знать, даже когда казалось бы не знать становится совсем сложно. До тех пор, пока мы будем закрываться, как ребенок руками, от того, чего не хотим знать, нашим любимым (писателям-) мертвецам не будет покоя, когда и если, мы захотим узнать их, можно будет работать спокойно. Мне кажется, примером такой спокойной работы является горячая и горестная новая книга Олега Юрьева.