«Автор, пользовавшийся равным авторитетом в церкви и обществе»: Николай Эппле о Клайве Стейплзе Льюисе
КИРИЛЛ КОБРИН: В послесловии к изданию вы пишете, что Льюис был «однодумом» — то есть, во всех своих трудах, в каком бы они ни были написаны жанре (художественная проза, апологетика, филологические штудии), он говорит, в основном, об одном. О чем? Что это за тема, которая объединила бы «Письма Баламута», «Аллегорию любви» и сказки Льюиса?
НИКОЛАЙ ЭППЛЕ: Главная, заветная, мысль Льюиса такова: предмет изучения историка, филолога или богослова, то, о чем пишет поэт — не абстрактный объект, а основа для взаимодействия. В случае богословия — Субъект, которого не исследуют, а с которым общаются. Очень важны для Льюиса слова, сказанные его близким другом-инклингом Хьюго Дайсоном, что философия для Платона была не предметом, а путем. А я очень люблю фразу из книги о Мильтоне, что, избирая своим предметом добродетель, старые поэты не учат ей, а преклоняются перед нею. Эта главная мысль определяет стиль и метод Льюиса — кажущееся отсутствие дистанции по отношению к предмету исследования, подкупающая и заражающая читателя страстность, непривычная в ученых книгах. Чтобы понять Мильтона, Спенсера, Жана де Мена или Кретьена де Труа нужно, насколько это возможно, понять, как они жили и для чего писали, настроить свою оптику таким образом, чтобы самому стать человеком соответствующей эпохи.
Чтобы понять «Потерянный рай», нужно постараться залезть в голову к Мильтону, а не заниматься опровержением его заблуждений и выяснением того, что он мог бы сказать нашему современнику. Залезть же в голову автора можно только посредством реконструкции, через тексты, современной ему картины мира. Со временем этот подход переносится из
К.К.: Как можно определить место Льюиса — филолога, историка культуры в британском контексте гуманитарной мысли — и в более широком контексте? Во- первых, не «устарели» ли его работы — учитывая настоящую теоретическую революцию в этой области знания, которая произошла после Второй мировой войны. Во-вторых, не являются ли его исследования «чисто островным феноменом» — все знают настороженность и упорный консерватизм, который исповедуют в Британии в сфере гуманитарного знания, стойко противостоя тому, что часто называют здесь разными словами, от «French theory» до «French imposters»? Не является ли феномен Льюиса-историка и филолога чисто местным, локальным?
Н.Э.: «Аллегория» вышла почти 80, а «Отброшенный образ» — 50 лет назад. Это очень много для академических исследований, наука развивается, и даже самые выдающиеся работы устаревают. Устаревают, но остаются вехами интеллектуальной истории, о которых помнят и на которые равняются — как «Морфология сказки» Проппа, книги Бахтина о Достоевском и Рабле, или «Поэтика древнерусской литературы» Лихачева. Важно, что до сих пор понимание «Королевы фей», «Троила и Крессиды», «Потерянного Рая», «Романа о Розе» в значительной степени исходит из трактовок Льюиса или, или, как в случае с концепцией «куртуазной любви», вызывает споры, которые оказываются основой современных трактовок. Поэтому в списках обязательной литературы для студентов-филологов книжки Льюиса до сих пор присутствуют. Что касается изоляции, отчасти она существует по вполне объективным причинам, но прежде всего сам Льюис вполне отдавал себе в этом отчет — работая над «Аллегорией» он жаловался, что в Англии тема книги не найдет грамотных критиков, а во Франции, где такие специалисты есть, английские исследования читают мало.
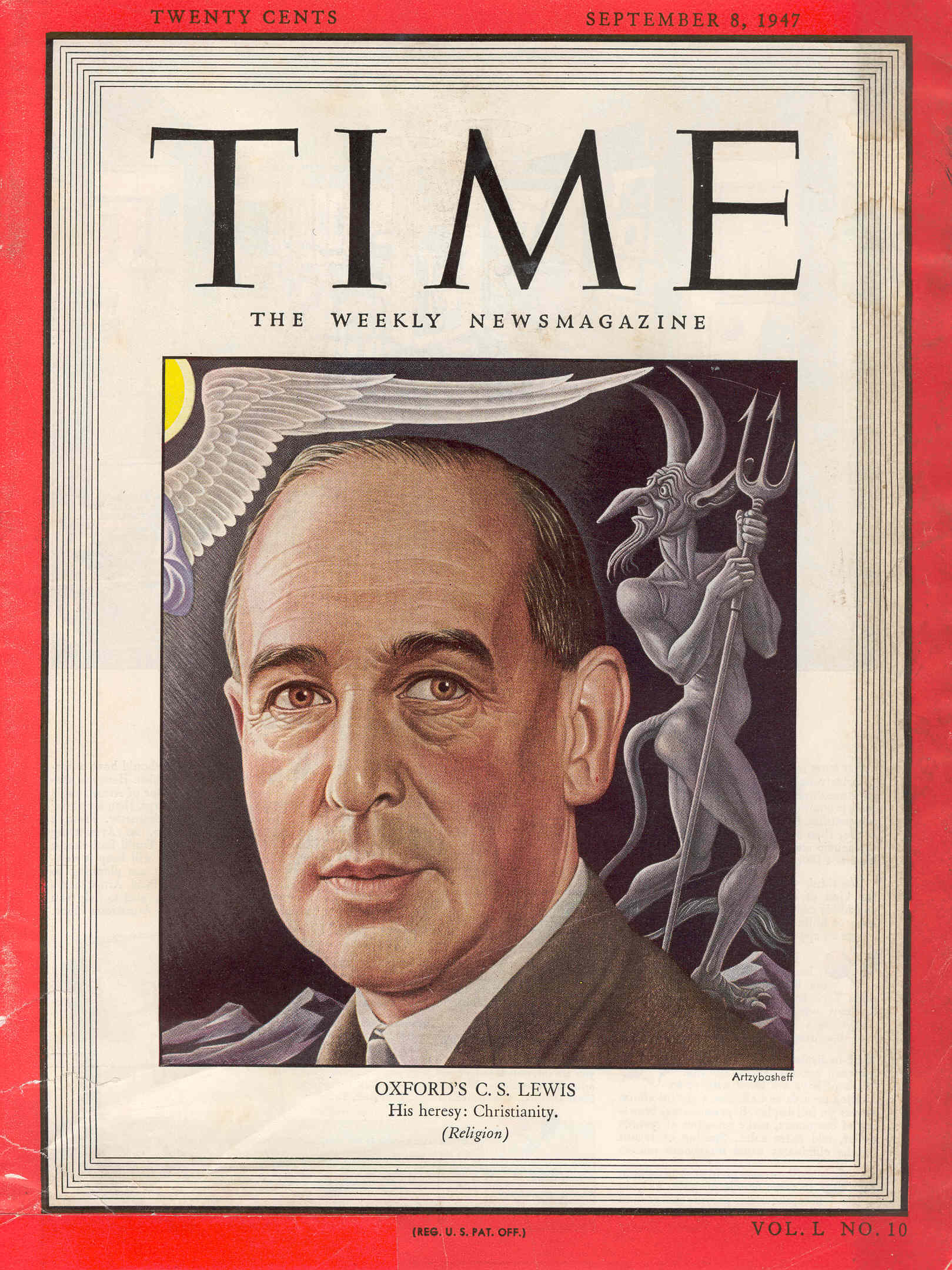
В известной мере, не стать локальным явлением штудиям Льюиса помогло то, что его подход во многом совпал с тем, что делалось в те же годы в Европе — речь идет о школе «Анналов», оказавшей большое влияние на континентальную науку. То, что у Льюиса вообще нет ссылок на анналистов, действительно, отчасти иллюстрирует изолированность британской науки. Отчасти же дело в том, что анналисты стали заметным явлением только к концу 1940-х гг., когда Льюис уже написал свои основные работы. Как бы то ни было общность подхода во многом компенсировала недостаток общности контекста, и помогла прочесть его книги в Европе. Если говорить о месте Льюиса в современном историко-литературном контексте, показательно, что известный американский историк литературы, культуролог и критик Харольд Блум в своих работах то и дело упоминает Льюиса, не просто полемизирует с ним, а во многом выстраивает свою исследовательскую и творческую стратегию в отталкивании от него. Блум даже написал фантастический роман, продолжение «Путешествия к Арктуру» Сидни, в пику «Космической трилогии».
К.К.: Откуда у христианина (англиканина) Льюиса столь пристальный интерес к именно к Средневековью (особенно позднему) и Возрождению? Связано ли это с тем, что именно в то время в Англии произошла Реформация?
Н.Э.: Льюис стал сначала филологом, а потом христианином, так что выбор специальности не определялся религиозным фактором. Кажется, его выбор пал на Средние века потому, что именно этот период позволял во-первых прослеживать связи английской литературы (Льюис был преподавателем этой дисциплины) с античностью, которую он знал и любил, а
Конфессиональный же компонент на удивление мало существенен для Льюиса, что в его историко-литературных работах, что в апологетике. Примечательно, что самая объемная работа Льюиса, так называемая “O Hell” (English Literature in the XVIth century) посвящена как раз периоду Реформации, но это книга сугубо историко-литературная. Глава о литературе английской Реформации посвящена полемическим трактатам и переводам Библии, и Льюис специально оговаривает свою позицию беспристрастного исследователя. Жестокую полемику двух совершенно святых людей, мучеников, католика Томаса Мора и протестанта Тиндейла он описывает, не принимая сторону кого-то из них, а просто с горечью о том, что они не понимают друг друга. Срывается он там, пожалуй, только однажды — когда пишет о том, насколько сегодняшнее представление о пуританстве как законничестве противоположно переполнявшему первых пуритан вдохновению свободы как «стояния в Промысле». Страницы, посвященные раннему пуританству — из лучшего, написанного Льюисом. “O Hell” очень приятно было бы перевести, это важная работа, но никакой издатель не даст на это денег, а кому надо, прочтет и
К.К.: Льюис (как и остальные «Инклинги» в той или иной степени) многим обязан Честертону, и не только апологетикой. Но Честертон — как и Толкин — католик. Как Льюису приходилось обходить это обстоятельство — и не было ли оно, в конце концов, реальной причиной его расхождения с Толкином? Известно, что последний не одобрил женитьбы Льюиса на разведенной американке; за этим просматривается не только ханжество Толкина (и даже его скрытый антисемитизм), но и столкновение правил разных церквей, разве не так?
Н.Э.: Честно говоря, мне кажется, Честертон и Льюис оказываются близкими фигурами скорее в российском «интеллигентском» мифе об Англии, чем в реальности. Честертон — важен как глубокий христианский автор, Наталья Леонидовна Трауберг считала его важнейшим для XXI века христианским автором — католическая церковь сейчас начала процесс его беатификации. Но с Льюисом у них довольно мало общего. Я сейчас специально проверил в собрании писем Льюиса (это огромный корпус в четыре тысячи страниц): упоминаний Честертона там не больше, чем Маркса или Толстого. И в любом случае Честертон для Льюиса не католик, так для него вопрос вообще не ставится. Поэт — да; полемист (и в некоторых контекстах он идет через запятую с атеистом Бернардом Шоу) — да; христианин, излагающий свои идеи в форме художественных произведений, — да; но даже тут для Льюиса куда важнее Макдональд.
История взаимоотношений с Толкином — тоже пример того, насколько Льюис не мыслил в конфессиональных категориях — а Толкин мыслил. Для Льюиса англиканская церковь не была каким-то сознательным конфессиональным (партийным) выбором. Он насмотрелся на эти партийные игры в Белфасте, где вырос (его дед был настоятелем большой церкви в Белфасте, горячим врагом «папистов»). Англиканство было для него формой, если угодно, экуменизма, отказом от конфессионального выбора. Падая в воду абсолют становится рыбой, учил Гегель, а христианин в Англии «по умолчанию» оказывается англиканином. В одном месте Льюис замечает, что богослов XVI века Ричард Хукер, один из
Льюис различал светский брак, как формальность имеющую формальное значение, и венчание — а для Толкина это было невозможно. На Джой (действительно, ко всему прочему, разведенной) он женился сначала формально, чтобы дать ей гражданство — и вот это для Толкина было непостижимо. Но, насколько я понимаю, друзья Льюиса не любили Джой прежде всего потому, что считали, что она женила его на себе обманом, хочет отобрать дом и т.д.
Возвращаясь к обращению системы координат, о котором было сказано выше: «Просто христианство» — это то, во что превращает экклезиологию льюисовский метод. Это подлинный центр, на который мы ориентируемся, отрешившись от собственных «конфессиональных» заморочек, настоящая Церковь, поверх человеческих перегородок, которые «до неба не доходят». Противоречий с католичеством на этой позиции быть не может, напротив, есть глубинное взаимопонимание поверх перегородок. Примечательно, что ближайшими pen-friends Льюиса были три монаха, и каждая из этих история была для него очень важной. Во-первых Беда Гриффитс, студент, которого он привел к вере, и который был сначала англиканином, потом строгим католиком, а потом создал уникальную католическо-индуистскую общину. Это дон Джованни Калабриа, итальянский католический монах и священник, недавно беатифицированный (мы с Борисом Каячевым перевели с латыни их очень интересную переписку, надеюсь, она найдет своего издателя). И сестра Пенелопа из монашеской общины в Уонтэйдже, принадлежащей к очень близкой к католичеству Высокой церкви — три года назад часть общины перешла в католичество.
К.К.: Сравнительная судьба Льюиса и Толкиена в России (сначала в СССР, а потом в России). У меня создалось впечатление, что этический и филологический (а для обоих этическое странным образом совпадало с филологическим, как у знаменитых позднесоветских филологов, вроде Аверинцева, Лотмана и Гаспарова) «мессидж» обоих, который был исключительно актуален в 1970--1980-е годы, сегодня совершенно исчез, даже для интеллигенции. Толкиен остался как автор знаменитой фэнтэзийной книги, по которой поставлен знаменитый фильм — и как автор мощнейшего мифа, которым до сих пор кормятся многочисленные реконструкторы. Льюис и вовсе почти «ушел» — не считая сказок, конечно (и фильмов по сказкам), но даже они не очень популярны в России. В чем может быть «возрожденная актуальность» «инклингов» в нынешнюю эпоху в России? И возможна ли она вообще? Или Льюис останется всего лишь одним из странных эксцентричных британских университетских литераторов и филологов прошлого века?
Н.Э.: Это действительно любопытная ситуация. «Мода» на Толкина и Льюиса в России была первоначально в значительной степени академическим явлением. Это звучит неожиданно, но перевод трактата «Любовь» был впервые опубликован в «Вопросах философии» на исходе 1980-х, а одно из первых в СССР печатных упоминаний «недавно умершего английского писателя Толкьена» обнаруживается в брошюре Сергея Аверинцева «Попытка объясниться», опубликованной в Библиотечке журнала «Огонек» в 1988 г. Позднее, на волне «духовного возрождения 90-х началась более массовая популярность, и более поверхностная, а потом глубокое и поверхностное и вовсе разошлись. У Толкина на массовом уровне оказался воспринят прежде всего (а иногда только) вымышленный мир, у Льюиса — моральное учительство (часто понятое догматически) и сказки. «Фэнтезийный» Толкин зажил собственной жизнью, а Льюис постепенно выходил из моды по мере того, как духовное возрождение оборачивалось новым закрепощением.
В 1970-е — 90-е гг., когда Льюис был переведен на русский и приобрел широкую популярность как апологет, были временем напряженных духовных исканий в среде образованной публики, и выбор в пользу православия был для многих как раз выбором «просто христианства». Для людей ищущих, готовых к реальному обращению, реальной перестройке системы координат «от себя к центру», Льюис был прекрасным помощником. За последние годы ситуация сильно изменилась, РПЦ стала в значительной степени национальной конфессией, занятой трансляцией государственной идеологии. Закономерно, что авторы иных исповеданий, и даже просто иностранные, начинают восприниматься как не вполне благонадежные (совсем свежий пример — указания на неактуальность наследия митр. Антония Блума, одного из ярчайших православных апологетов).
Сегодня ведь «ушел» не только Льюис — христианских авторов, пользующихся равным авторитетом в церкви и обществе, просто нет. И поскольку это ситуация неестественная, ведь потребность в таком слове есть всегда, мне кажется, надежда на возрождение актуальности Инклингов существует. В чем Толкин и Льюис действительно близки, так это в представлении об интегральном единстве христианства и культуры. И тут важно напоминание о культурологических штудиях Льюиса. Когда претензии на любое моральное учительство сильно дискредитированы, весомым оказывается слово «эксперта», «профессионала». А профессионализм Льюиса неотделим от его личности и от его метода. Его умение отстраниться, дав слово Старой Европе, которую он реконструирует на страницах своих исследовательских книг, — пример ориентации в пространстве. Историко-литературный навык, приучающий считать центром системы координат не себя, а свой предмет, позволяет отличить постоянное от случайного и преходящего, не только в истории, но и в современности.
Мне кажется, знаменитые строки из «Страдания» (цитирую их в замечательном переводе Натальи Трауберг) звучат в нынешнее смутное время ничуть не слабее, чем звучали в СССР 70-х: «Порою мы попадаем в карман, в тупик мира — в училище, в полк, в контору, где нравы очень дурны. Одни вещи здесь считают обычными («все так делают»), другие — глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире «обычными вещами» гнушаются, а донкихотство входит в простую порядочность. То, что представлялось болезненной щепетильностью, оказывается признаком душевного здоровья».
