Ненасытное первобытное начало: Отрывок из романа Донны Тартт «Тайная история»
Он был изумительным, просто волшебным оратором. Как хотелось бы мне воссоздать на этих страницах всю магию его лекций!
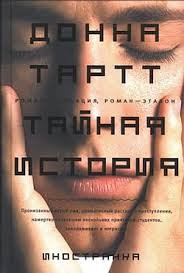
Увы, человек с посредственными способностями не в состоянии, особенно по прошествии стольких лет, передать своеобразие и очарование речи того, кто одарен интеллектом в исключительной мере. В тот день речь шла о четырех видах божественного безумия у Платона и безумии вообще. Он начал беседу с того, что называл бременем эго.
— Тихий настойчивый голос у нас в голове — почему он так мучает нас? — спросил он и выдержал паузу. — Может быть, он напоминает нам о том, что мы живы, что мы смертны, что каждый из нас наделен неповторимой душой, расстаться с которой мы так боимся, хотя она-то и заставляет нас чувствовать себя несчастней всех прочих созданий? Кроме того, что, как не боль, обостряет наше ощущение самости? Ужасно, когда ребенок вдруг осознает, что он — обособленное от всего мира существо, что никто и ничто не страдает, когда он обжег язык или ободрал коленку, что его боль принадлежит лишь ему одному. Еще ужаснее, когда с возрастом начинаешь осознавать, что ни один, даже самый близкий и любимый человек никогда не сможет понять тебя по-настоящему. Эго делает нас крайне несчастными, и не потому ли мы так стремимся от него избавиться? Помните эриний?
— Фурии, — сказал Банни. Его завороженные глаза были едва видны
— Именно. Помните, как они доводили людей до безумия? Они заставляли внутренний голос звучать слишком громко, возводили присущие человеку качества в непомерную степень. Люди становились настолько самими собой, что не могли этого вынести. Так как же
Раздался смех Генри:
— Мы могли бы сделать это сегодня же, вшестером.
— Как? — воскликнули все в один голос.
— Один блокирует линии связи и электропередачи, другой берет под контроль мост через Бэттенкил, третий — выезд из города по главной дороге на север. Остальные движутся с юга и запада. Нас мало, но, если рассредоточиться, мы могли бы перекрыть все пути, ведущие в город, — он поднял ладонь, растопырив пальцы, — и окружить центр со всех сторон. — Пальцы сомкнулись в кулак. — Конечно, у нас было бы преимущество внезапности, — добавил он, и от бесстрастного звучания его голоса мне неожиданно стало не по себе.
Джулиан издал короткий смешок:
— Сколько же лет прошло с тех пор, как боги в последний раз вмешивались в людские войны? Думаю, Аполлон и Афина Победоносная непременно сошли бы на землю, чтобы сражаться на вашей стороне, “званые или незваные”, как возвестил дельфийский оракул лакедемонянам. Только вообразите, какие бы вышли из вас герои.
— Наполовину равные богам, — со смехом отозвался Фрэнсис. — Мы бы восседали на тронах на главной площади города.
— А местные купцы несли бы дань к вашим стопам.
— Золото. Павлинов и слоновую кость.
— Скорее уж чеддер и крекеры, — вмешался Банни.
— Нет ничего ужасней кровопролития, — поспешно сказал Джулиан (замечание о крекерах ему явно не понравилось), — но ведь именно наиболее кровавые места у Гомера и Эсхила зачастую оказываются самыми великолепными. Например, та восхитительная речь Клитемнестры в “Агамемноне”, которая мне так нравится. Камилла, ты была нашей Клитемнестрой, когда мы ставили “Орестею”. Помнишь что-нибудь оттуда?
Свет из окна бил ей прямо в лицо. При таком сильном освещении большинство людей выглядит блекло, но ее чистые, четкие черты словно бы светились изнутри, так что от взгляда на нее перехватывало дыхание. Я сидел и смотрел на ясные, лучистые глаза и густые ресницы, на висок, где маленькое озерцо золота постепенно растворялось в ровном и теплом, как мед, блеске волос.
— Немного помню.
Глядя на стену чуть выше моей головы, она начала декламировать на греческом. Я не сводил с нее глаз. Интересно, есть ли у нее друг? Может быть, как раз Фрэнсис? Они явно были накоротке, хотя Фрэнсис не производил впечатления человека, которого очень интересуют девушки. В любом случае у меня не было никаких шансов, ведь ее окружали все эти богатые продвинутые ребята в темных костюмах. Куда мне до них, с моими неловкими движениями и манерами провинциала. Ее голос, с легкой хрипотцой, звучал низко и пленительно.
Так он, с хрипеньем, в красной луже отдал дух;
И вместе с жизнью, хлынув из гортани, столб
Горячей крови обдал мне лицо волной —
Столь сладостной, как теплый ливень сладостен
Набухшим почкам, алчущим расторгнуть плен…
Отзвучало последнее слово, и на несколько секунд воцарилась тишина. К моему удивлению, Генри, сидевший напротив Камиллы, торжественно ей подмигнул.
Джулиан улыбнулся:
— Прекрасный отрывок. Я готов слушать его снова и снова. Однако как получается, что эта ужасная сцена — царица, кинжалом убивающая своего мужа в ванне, — так восхищает нас?
— Дело в размере, — сказал Фрэнсис. — Сенарий размечает речь Клитемнестры, как набат.
— Но согласитесь, что для греческой поэзии в шестистопном ямбе нет ничего необычного, — возразил Джулиан. — Почему же нас захватывает именно этот отрывок? Почему нас не привлекают сцены более спокойные и приятные?
— В “Поэтике” Аристотель говорит, — подал голос Генри, — что вещи, отталкивающие сами по себе, например трупы, способны восхищать зрителя, когда они запечатлены в произведениях искусства.
— И на мой взгляд, Аристотель прав. Подумайте сами — какие сцены в античной литературе мы помним и любим больше всего? Ответ очевиден. Убийство Агамемнона и гнев Ахилла. Дидона на погребальном костре. Кинжалы заговорщиков и кровь Цезаря. Помните то место у Светония, где тело Цезаря, со свисающей рукой, уносят на носилках?
— Или взять все по-настоящему жуткие места из “Ада” Данте, — оживился Фрэнсис. — Безносый Пьер да Медичина, говорящий через окровавленную щель в гортани…
— Я могу вспомнить кое-что и похуже, — заметил Чарльз.
— Смерть — мать красоты, — изрек Генри.
— А что же тогда красота?
— Ужас.
— Хорошо сказано, — кивнул Джулиан. — Красота редко несет покой и утешение. Напротив. Подлинная красота всегда тревожит.
Я посмотрел на Камиллу, на ее освещенное солнцем лицо и вспомнил ту знаменитую строчку из “Илиады” об очах Афины, горящих страшным огнем.
— Но если красота — это ужас, то что же тогда желание? — спросил Джулиан. — Нам кажется, что мы желаем многого, но в действительности мы хотим лишь одного. Чего же?
— Жить, — ответила Камилла.
— Жить вечно, — добавил Банни, не отрывая подбородок от ладони.
Из закутка послышался свист чайника. Когда расставили чашки и Генри с церемонностью китайского мандарина разлил чай, мы заговорили о безумии, насылавшемся богами на людей, — поэтическом, провидческом и, наконец, дионисийском.
— Которое окружено гораздо большей тайной, чем все остальные, — сказал Джулиан. — Мы привыкли считать, что религиозный экстаз встречается лишь в примитивных культурах, однако зачастую ему оказываются подвержены именно наиболее развитые народы. Греки, как вы знаете, не слишком сильно отличались от нас. Они были в высшей степени цивилизованны, придерживались сложной и довольно строгой системы норм и правил. Тем не менее они часто впадали в дикое массовое исступление: буйство, видения, пляски, резня. Я полагаю, все это показалось бы нам неизлечимым, клиническим сумасшествием. Однако греки, во всяком случае некоторые из них, могли произвольно погружаться в это состояние и произвольно же из него выходить. Мы не можем просто так отмахнуться от свидетельств на этот счет. Они вполне неплохо документированы, хотя древние комментаторы и были озадачены не меньше нас. Некоторые полагают, что дионисийское неистовство было результатом постов и молитв, другие — что причиной всему вино. Несомненно, коллективная природа истерии тоже играла какую-то роль. И все же крайние проявления этого феномена по-прежнему необъяснимы. Участников таинств, образно говоря, отбрасывало в бессознательное, предшествовавшее появлению разума состояние, где личность замещалась чем-то иным и под “иным” я подразумеваю нечто неподвластное смерти. Нечто нечеловеческое.
Мне вспомнились “Вакханки”. От первобытной жестокости этой пьесы, от садизма ее кровожадного бога мне в свое время стало не по себе. По сравнению с другими трагедиями, где правили пусть суровые, но все же осмысленные принципы справедливости, это было торжество варварства над разумом, зловещий и недоступный пониманию триумф хаоса.
— Нам нелегко признаться в этом, — продолжил Джулиан, — но именно мысль об утрате контроля больше всего притягивает людей, привыкших постоянно себя контролировать, людей, подобных нам самим. Все истинно цивилизованные народы становились такими, целенаправленно подавляя в себе первобытное, животное начало. Задумайтесь, так ли уж сильно мы, собравшиеся в этой комнате, отличаемся от древних греков или римлян? С их одержимостью долгом, благочестием, преданностью, самопожертвованием? Всем тем, от чего наших современников бросает в дрожь?
Я обвел взглядом лица шести человек, сидящих за столом.
— Для всякого разумного человека, особенно если он, подобно древним грекам и нам, стремится к совершенству во всем, попытка убить в себе ненасытное первобытное начало представляет немалое искушение. Но это ошибка.
— Почему? — спросил Фрэнсис, слегка подавшись вперед.
Джулиан удивленно приподнял бровь. Длинный тонкий нос придавал его профилю сходство с этрусским барельефом.
— Потому что игнорировать существование иррационального опасно. Чем более развит человек, чем более он подчинен рассудку и сдержан, тем больше он нуждается в определенном русле, куда бы он мог направлять те животные побуждения, над которыми так упорно стремится одержать верх. В противном случае эти и без того мощные силы будут лишь копиться и крепнуть, пока наконец не вырвутся наружу — и окажутся тем разрушительнее, чем дольше их сдерживали. Противостоять им зачастую не способна никакая воля. В качестве предостережения относительно того, что случается, если подобный предохранительный клапан отсутствует, у нас есть пример римлян. Римские императоры. Вспомните Тиберия, уродливого пасынка, стремившегося ни в чем не уступать своему отчиму, императору Августу. Представьте себе то невероятное, колоссальное напряжение, которое он должен был испытывать, следуя по стопам спасителя, бога. Народ ненавидел его. Как бы он ни старался, он всегда оставлял желать лучшего. Ненавистное эго всегда оставалось с ним, и в конце концов ворота шлюза прорвало. Забросив государственные дела и поселившись на Капри, он предался дикому разврату и умер безумным, презираемым всеми стариком. Был ли он хотя бы счастлив там, на острове, в своих садах наслаждений? Нет, напротив, — постыл и отвратителен самому себе. Еще за несколько лет до кончины он начал письмо в сенат такими словами: “Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней". Вспомните тех, кто пришел вслед за ним. Калигулу. Нерона.
Он помолчал.
— Гением Рима и, возможно, тем, что его погубило, была страсть к порядку. В римской архитектуре, литературе, законах хорошо видно это бескомпромиссное отрицание тьмы, бессмыслицы, хаоса. — Он усмехнулся. — Понятно, почему римляне, обычно столь терпимые к чужим религиям, безжалостно преследовали христиан. Как нелепо полагать, что обычный преступник восстал из мертвых! Как отвратителен обычай чествовать его, передавая по кругу чашу с его кровью! Нелогичность этой религии пугала их, и они делали все возможное, чтобы ее искоренить. Я думаю, они шли на столь решительные меры не только потому, что она внушала им страх, но и потому, что она ужасно их привлекала. Прагматики бывают на удивление суеверны. Несмотря на всю их логику, римляне тряслись от страха перед сверхъестественным. У греков все было иначе. Питая, подобно римлянам, страсть к симметрии и порядку, они тем не менее сознавали, как глупо отрицать невидимый мир и древних богов. Необузданные эмоции, варварство, мрак. — Смутное беспокойство проступило на лице Джулиана, и
Теперь уже все мы замерли и сидели подавшись вперед. Я заметил, что у меня открыт рот и я слышу каждый свой вдох.
— Это, на мой взгляд, и есть страшный соблазн дионисийских мистерий. Нам трудно представить себе это пламя чистого бытия.
