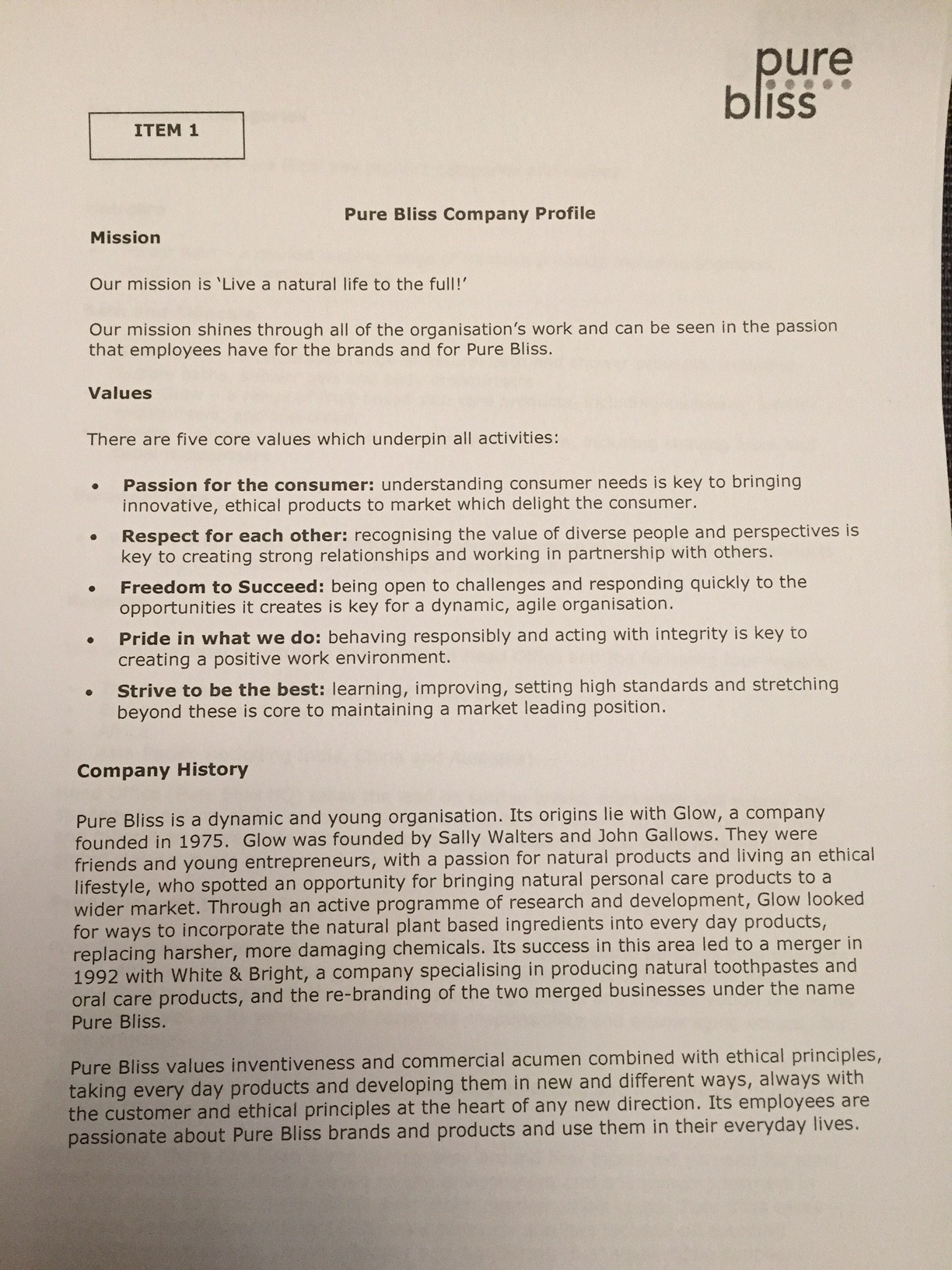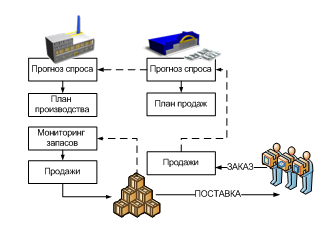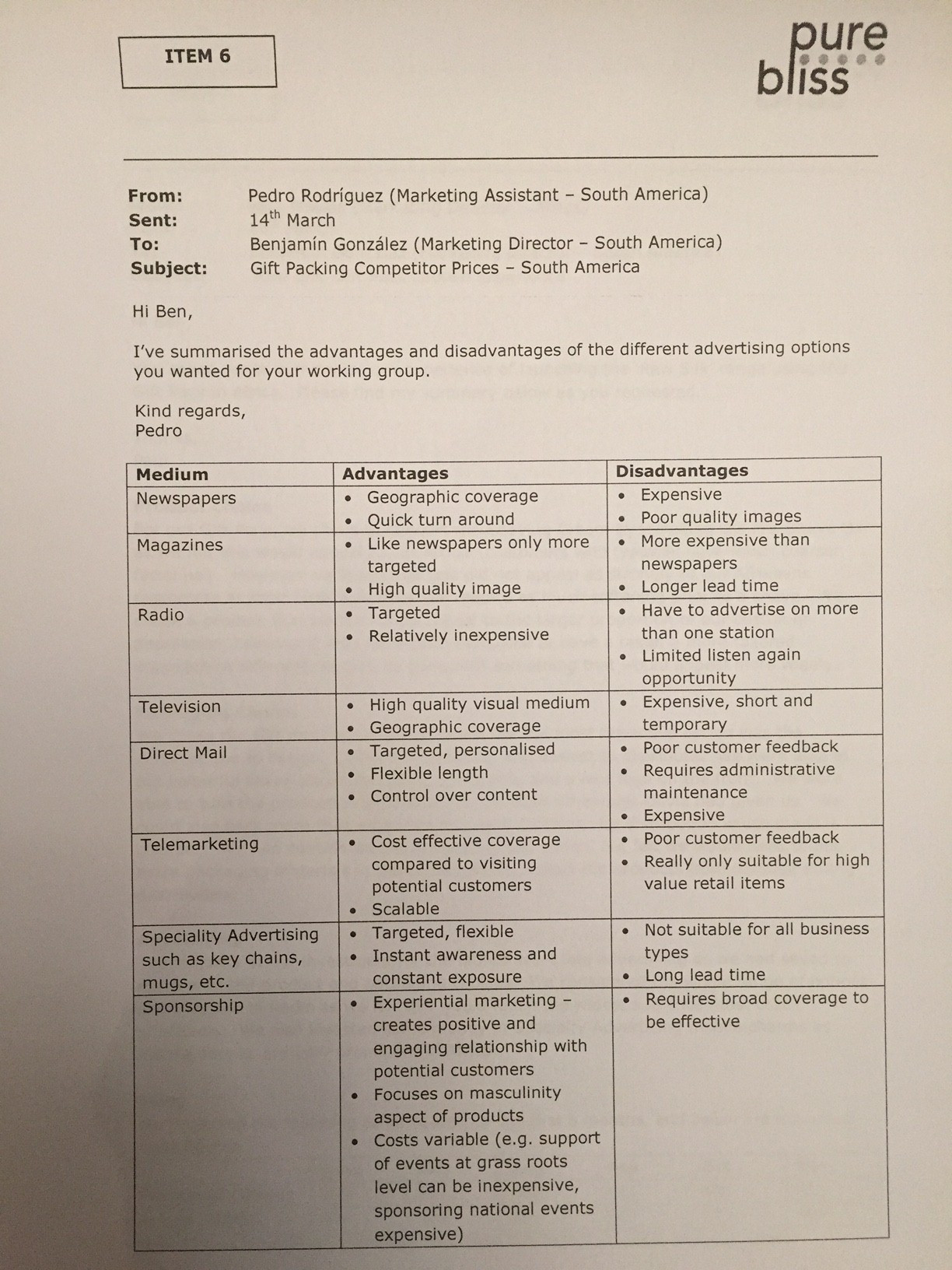sdfsdfsd
Мастерская Дмитрия Брусникина едет в Авиньон, взяв Гран-при фестиваля «Твой шанс». Выпускники курса (2011-2015) Дмитрия Брусникина в
Разговор с Василием Михайловым поражает тремя вещами. Во-первых, очевидно, новое поколение вовсе не то, что мы о нём думаем. Они легко подхватили серебряную нить связи со всей мировой культурой. И отчётливо осознают, что эту связь надо защищать любой ценой. Во-вторых, это поколение свободно совсем иной свободой, нежели мы думаем, видя в них только себя, свои постсоветские представления о свободе. И
— Начнём с трудных вопросов. Почему вы оказались в театре, что случилось с ребёнком, с подростком Васей Михайловым?
— Очень легко. Потому что я был двоечником в школе. Первый раз на сцене оказался в 11 классе в идиотском школьном спектакле. Учительница по физике говорила мне — громче, громче, и я забыл все слова. Да и сейчас мне мастер говорит — громче. Так что школа это ужас.
— А родители что?
— А родители артисты. Папа тридцать лет в Театре комедии имени Акимова работал, снимался в кино, а потом у него произошёл некий щелчок в голове, он ушёл из семьи, уехал в тайгу и построил свой дом. В тайге, голыми руками, из деревьев построил дом и живёт там уже десять лет. Мне тогда было тринадцать лет. А мама окончила театральный институт, когда родился мой старший брат, потом родился средний, и только потом я, третий сын — дурак. Не знаю как в науке генетике, но мне кажется, предрасположенность к творческим актам связана с моей судьбой третьего ребёнка. Молоточки и гвозди достались старшим, а мне было одно — на, Васятка, порисуй.
— И в художку ходили?
— Одно занятие. Как только меня чему-то учат, сразу появляется блок. Причём я не пил, не курил в школе, даже уроки не прогуливал. Но был двоечником.
— Разве двоечники читают Ницше?
— Алгебра, геометрия, физика, химия — просто мимо. В этих вещах я полный ноль. В школе тройку чудом ставили — наверное, я был смешной. Да и литературу не любил, не интересно. Даже в
— Позвольте, ну вот хотя бы поэзией всё-таки интересовались?
— Терпеть не мог никакую поэзию. Наверное, не понимал. Причём всегда пытался сам чего-то там писать. Недавно нашёл стихотворение 99-го года в тетрадке, в Питере. Я ходил с томиком Достоевского в руках, мама заставляла читать. Но это всё для виду.
— А что не для виду?
— Понимаете, если видите красивую женщину, но не можете её полюбить, то… Так же и с поэзией поначалу. Хочется писать, а читать неинтересно, скучно. «Я пытаюсь сделать трепанацию черепа по инструкции из википедии». Вот так я писал. Зато сейчас у нас с поэзией роман. После того, как я сбежал и Академии театрального искусства в Питере.
— Из родного города?
— Не стоит забывать, что я учился на кукольника. Может, у меня такие пальцы, я не знаю. Я сбежал, потому что много стал читать, катастрофически много. Выпивкой я никогда не увлекался, а что ещё оставалось делать, за лето прочитал двадцать книг.
— Конфуций и Ницше?
— Это было уже прочитано к моменту полного одичания. Мне казалось, что я умнее всех, никто вокруг и двух слов связать не может. Было ощущение, что я понимаю абсолютно всё — в отношениях людских, театре, музыке, философии. Страшно раздражали не интересующиеся ничем люди. И вот, написав первое стихотворение, посвящённое бесившим меня однокурсникам-кукольникам, я нырнул в омут московский.
— Пролегомены к «Бесам», отравление массовым сознанием.
— Парадокс. По отдельности я со всеми дружу, а все вместе меня бесят. Крайне не люблю все массовые вещи. Обливаюсь потом и ужасом, слыша о Православии не как о личном пути, а как о приказной национальной идее.
— Да, непонятно откуда берутся массовые абстрактные лозунги. Вроде бы из идей, но если присмотреться, каждая личность привносит в идею своё, человеческое. Это берут на вооружение продвинутые теоретики, и новые марксисты говорят — никаких абстракций, в теории Маркса надо видеть отдельного человека, самого Маркса надо видеть человеком, тогда наступит правильный марксизм. Все науки становятся принципиально личностными, а массовое сознание цепляется за кроманьонских предков. Но это ладно, а почему ты именно к Брусникину поступил? Какие, по-твоему, были критерии отбора?
— Случайно поступил. Я слышал, было предпочтение музыкальным людям, но не было предпочтений красавцам, похожим на древнегреческих богов.
— Не только музыка, но танцы ваш удел. Как Максим Диденко связал ваш курс с танцами во «Втором видении» и «Конармии», как выбрал вас?
— Это не он нас выбрал, а мы его, через Юрия Львовича Квятковского, придумавшего нетривиальную идею спектакля.
— Помню яркую «Кофейню», ещё до вас. Почему-то мне нравится всё, что вы делаете как труппа.
— А вам, наверное, вообще всё в театре нравится?
— Не потому, что мне всё подряд нравится, а потому что на отдельном фестивале всегда есть лучшая вещь. Но эта лучшая вещь в контексте других фестивалей оказывается средненькой. Почему так мало настоящих, точных оценок по гамбургскому счёту, почему эксперты никому не нужны? Потому что признать за экспертами способность сравнивать не вещи, а контексты — признать собственную малообразованность, в широком смысле, чего нынешний чиновник вытерпеть не может. Но мы отвлеклись.
— Так вот, этюдный метод Максима Диденко позволил нам соучаствовать в придумывании «Второго видения». И «Конармию» так делали, всё сами приносили, он отбирал. Поначалу ничего не складывалось в историю, мы долго не могли всё это скомпоновать, а когда Квятковский пригласил Диденко, тому понадобилось всего две недели на выстраивание «Второго видения». Он перевёл процесс в
— Ну вот, опять любимый поэт.
— Поэзия это музыка. Я не учился музыке, не могу говорить о поэзии как игре терций и квинт, переходов из мажора в минор. Не понимаю, почему один любимый, другой нет. Вот Набоков, верно, смог бы объяснить.
— А почему тебе выпала роль лектора во «Втором видении»?
— А нам курс лекций устроили по русскому авангарду, всё было серьёзно. К нам приходил искусствовед, обладавший забавной манерой рассказывания. А мы тогда как раз закончили курс вербатима, и я «снял» с хорошего лектора вербатим. Но в «Это тоже я» оно не вошло, зато пригодилось в Боярских палатах, как образ лектора-проводника. Это уже не вербатим, потому что нет взаимного внедрения.
— Вас из дас взаимное внедрение?
— Что-то похожее на строчку — расчесал комариный укус до размеров гангрены. Достаточно ведь пятнадцати минут концентрированного внимания. Конечно, не сам объект наблюдения внедряется как субъект, но его образ. «Второе видение» самый нервный для меня спектакль, как будто седеют пять волосин каждый раз.
— Моменты импровизаций со зрителями?
— Да. Хочется всё зафиксировать, играть стабильное состояние. Иногда в зал приходят тучи, дождь и мороз, а ты уже в шортиках вышел на пляж. Какие бы я там свои чакры обаяния не включал, зритель молчит и молчит. Бывают сумасшедшие, и это прекрасно. Однажды бывший кагебешник в круглых очках говорил без умолку. Я даже иногда грублю зрителю специально. То есть фиксацию хочется, наоборот, разбить. Как-то сидел на Марсовом поле и понял — когда я счастлив, я несчастлив.
— Я знаю, что ничего не знаю?
— Дело не в знании, а в прочувствовании. Поэтому я очень люблю «Бесов», хотя Николая Всеволодовича Ставрогина мало для меня там. Для меня Ставрогин и Кириллов главные люди «Бесов», а у нас, очевидно, шатовская история, оставляющая Ставрогина обычным неврастеническим бабником. Я там только и делаю, что налаживаю контакты с женщинами.
— А мне нравится теневое присутствие Ставрогина, его тихий голос. Пятёрка бомбистов относится к Ставрогину как божеству, свита играет короля.
— Я, Петя Скворцов и два Верховенских — Вася Буткевич и Алексей Мартынов, любим этот спектакль больше всего. Инсценировку писал Дмитрий Владимирович Брусникин, но и как режиссёра его можно было вписать в афишу.
— Да он вообще всегда с вами, все спектакли репетирует и приходит на них. Древний, классический, традиционный момент связи учителя с учениками. Других истинных традиций не существует в культуре, мне кажется.
— Он посвятил себя нам. А мы вообще внутри него. Нет формализма «мы-Вы», есть что-то семейное. Дмитрий Владимирович за четыре года ни разу не повысил на нас голос, он пушистый и добрый. В других мастерских бьют палкой, а нам просто неловко обидеть мастера, поэтому
— Понятно, как вы стали самостоятельны, ответственны, интенсивны. Метод этюдов, опять-таки. И что, сразу возник, прямо на втором курсе, профессиональный спектакль, ставший хитом «Практики»?
— Это специальная была задача, не выпускать класс-концерт в конце первого курса, а сделать по-взрослому, без дураков. Мастер этого не говорит, но, кажется, его давно раздражает классическая система образования, покрытая зелёной патиной, пылью и паутиной.
— Последние сто лет правит режиссёрский театр. А Брусникин вас спровоцировал на мощное актёрское творчество, неудачно названное методом этюдов.
— Был уникальный момент лаборатории, когда создавался «Это тоже я». Этого я жажду, мне лаборатория нужна, а результат по барабану. Мы не думали о результате, потому что думать о таком ещё не могли — первый курс, никаких дум. У Гротовского и Васильева, в этом смысле, другая лаборатория. Хорошо, когда нет ноши, тяжёлой стальной пластины с гравировкой «курс Брусникина», под тяжестью которой трещат позвонки. Мы просто жадные до работы. Это как после великого поста есть мясо первые дни.
— А ты постишься?
— Скорее, я жёсткий атеист. Вру. Первые шестнадцать лет жизни я постился, всё детство. Не люблю, естественно, армию, а сейчас ещё странная армия церкви добавилась.
— Читая Ницше…
— Да я этого Ницше давно оставил уже. Он долго меня держал, пока я не прочёл больше половины. Это был важный период, но теперь его авторитет сошёл на нет. Да и сам Ницше писал — возлюбите меня, а потом возненавидьте. А в православии я ненавижу православный активизм Дмитрия Энтео, а его много сейчас. Не понимаю, почему, когда я в церковь не лезу, они ставят таких, как Энтео, на все колокольни. Что христианство, что мусульманство — источник чудовищной нетерпимости к инакомыслию. А для меня смысл жизни — инакомыслие для всех, тогда и наступит сказочный мир-сон. И к театру приходится настороженно относиться, потому что там много общего сознания, неинакового. То ли дело поэзия и музыка — сидишь один, сочиняешь.
— Это да, но когда сидишь, сочиняешь один, за кадром большая тень всех людей, потому что зачем сочинять для себя? Представь, я устал, весь год вкалывал, отпуск. От людей воротит, не хочу, не люблю, так устал от них. Хочу, чтобы на пляже никого, в горах никого, город пустой, людей ноль. И вот я в древнем Крыму, наедине с ароматом диких трав, ни одного следа на песке. И что? Раз, и вступает вечный мотив «Робинзона» и десятка триллеров, я в ужасе бегаю в поисках следов человеческих. Не сразу, недели через две, но забегаю как мышь, точно знаю, проверено. Страшная мысль — меня и нет как одного, это иллюзия. Есть муравейник. Чтобы смягчить и завуалировать такого рода мысль, пришлось Карлу Юнгу разработать странную структуру понятий, где непонятное объясняется ещё более непонятным — коллективное бессознательное, подсознательное, сверхсознательное и просто сознательное.
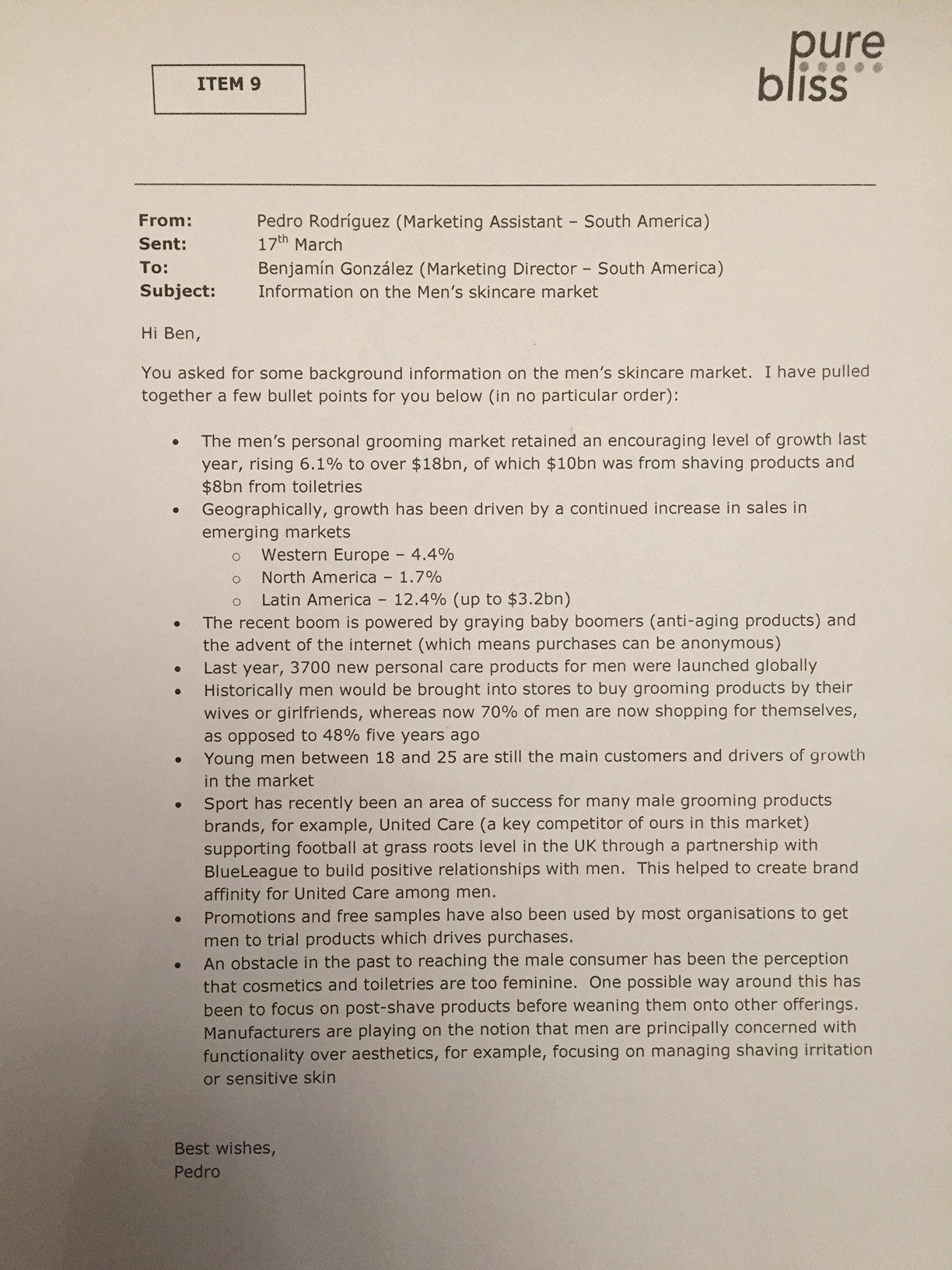
Бог с ним, с Карлом. Вот настоящий вопрос — кто из писателей у тебя в кумирах?
— Веничка Ерофеев, в которого я влюбился и люблю. Это уникальная величина в литературе — не с кем сравнивать. У меня от его самобытности мурашки по коже. Он даже когда пишет эссе о Василии Розанове, выходит чистая поэзия. «Я шёл по улице, моросил дождь, а может и не моросил. Мне было наплевать» — такая строчка моя полностью
— Уникальные люди всегда в глубоком меньшинстве, причём нельзя показывать свою инаковость — распнут.
— Я всегда за меньшинство, что бы оно ни проповедовало. Приговский принцип «против всех».
— А Пригова кто предложил делать в «Практике»?
— Муравицкий хотел перфоманс сделать, а мастер наш Брусникин сказал — давай тогда спектакль. А тебе понравилось это?
— Вполне. Даже не сам Пригов, он слишком привычным стал за тридцать лет, а сценическое развитие, проходящее все последовательные стадии превращения комсомольцев и товарищей рабочих в монстров и големов. Как раз удалось показать существенные черты массового сознания. Вижу, ты этой работой не совсем удовлетворён. А что тогда любимое из работ?
— Когда-то давно было «Это тоже я». В других театрах совсем ничего такого не увидел. В МХТ пошёл бы деньги зарабатывать, не за творчеством. А в театрах…. Одно могу сказать театрам — обманывайте, манипулируйте, играйте светом и звуком, мимикой и жестами, лишь бы я заплакал. «Бег» Бутусова впечатлил. «Отморозки» Серебренникова в душу запали. Но систематизировать «хорошо-плохо» не хочу.
— Процесс обучения никогда не заканчивается?
— Да у самого Брусникина процесс обучения не заканчивается. Не только мы от него, а и он от нас учится. Он через нас понимает, что происходит и что нужно нашему поколению. Я безумно благодарен этому человеку за эмпатию, и за то, что ввёл нас в пространство творчества, в чернозём, где можно пустить корни.
— Хорошо. А может процветать театр, обходящийся без прямой инициации чувств у зрителей? Время такое. Мощная логистика, театр мысли Богомолова, Вырыпаева, Волкострелова. Когда чувства инициируются не напрямую, не тоном голоса, но через рассуждения, рефлексию, самоиронию. Холодная, остранённая, филологическая, эстетическая красота.
— Открой первые странички «Дориана Грея» Уайльда, там максимы морали. Художник ничего никому не должен. Я вслед за ним говорю — может быть всё. Нет разделения на старый и новый, на чувственный и мысленный театр. Есть одно условие — это должно быть талантливо. Есть «Дар» Набокова — чрезвычайно рассудочная, продуманная вещь. Это сложнее поставить, чем что-то другое, но чувств не отменит у зрителей.
— Так сейчас большинство, в виде депутатско-министерской эссенции, правит всем — филологией и театрами, красотой и талантами, не имея никакого понятия о сути управляемого.
— В чём проблема большинства? Большинство всегда к
— А что смотришь из кино?
— Смотрю много, просто смотрю. Вчера «Игру в имитацию», позавчера «Запах женщины». А вообще есть три любимых. «Полёты во сне и наяву» заставляют меня плакать, это очень талантливо сделано, и разве можно сформулировать, как и почему. «Господин Никто» Жако ван Дормеля, четыре года снимался, чрезвычайно красив за счёт огромной концентрации особенной картинности. То есть три года фотосъёмки превращаются там в три секунды кино. Чувственный, запутанный, великолепный фильм. Ну и чемпион — «Сатанинское танго» Белы Тарр. Упоительные семь с половиной часов чёрно-белого артхауса, живопись, по сути. Последний фильм «Туринская лошадь» тоже хорош.
— Опять Ницше?
— Ну да, защитил лошадь и после этого десять лет провёл в дурдоме. Большинство из ребёнка во взрослого превращается, а он наоборот. Его баварские друзья поедали сосиски в кабаках и резвились с фройляйн, а он был серьёзнейшим учёным, доктором наук. А потом из академика стремительно в дитя превратился. «Esse homo» как финал разрушения всякой мысли, апофеоз детского зазнайства. Может, слишком сильно хотел славы, ведь «Заратустру» начали читать поздно, уже в сумасшедшие для Ницше годы. Раскалённый человек без кожи, не имеющий нужды ограничиваться в мысли. История бедного Фридриха похожа на «Загадочную историю Бенджамина Батона».
— Допустим, Ницше выскочил из плоской логистики, из плоского ума, а вот Генри Миллер сразу писал тексты в объёме, потому и шокировал публику. Ты чувствуешь внутреннюю похожесть на Миллера?
— Да, Миллер — жесть, просто зарубежный Веничка. Давай издалека попробую. Когда я был сильно верующим, то не понимал, как это можно совместить с актёрством и
— А глубина трагедии несчастного Ставрогина не снилась никакому Шатову?
— Вся трагедия в том, что я очень хочу уверовать, но не могу и не знаю как. Поэтому я отдался лицедейству. И впадаю в две крайности — либо шутовство с фиглярством, либо ценное, хрупкое и серьёзное. А Миллер умудряется совместить фиглярство с
— А это всего-навсего окисление слова?
— Вот именно. Читая Миллера, чувствуешь себя геем, эмигрировавшим в Европу, где его хлопают по плечу и говорят — парень, всё нормально, вспомни древних гейских греков, создавших нашу цивилизацию. Так Миллер вылечил меня от двух вещей — шизофренического раздвоения и снобизма. Теперь можно не стесняться себя, генерала ЧернОты…