Поворот к не-человеческому: ontological turn + posthuman turn
В 21-м веке центр тяжести интеллектуального внимания перешёл с постмодернизма на реалии около-модернисткого дискурса. В этих реалиях появились новые тренды в философии и искусстве, которые своей неоднозначностью, размытостью и проблематичностью, с одной стороны, усиливают тело Актуального, с другой же, нащупывают уязвимые стороны этого тела, словно намереваясь нанести ему травму. Эта попытка расшатать устои Актуального довольно спорна, но в потоке новых идей и стратегий появляются некоторые намёки на возможность прорыва.
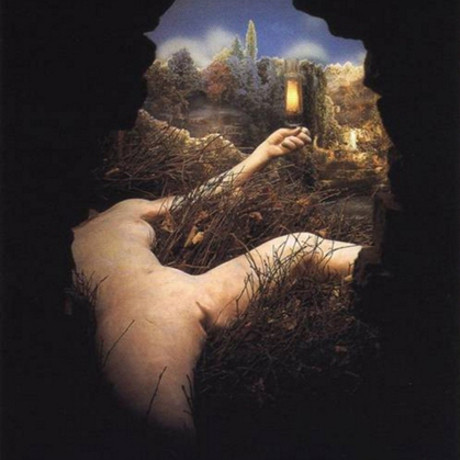
Последние два-три десятка лет отмечены ощутимыми качественными скачками в разных научных дисциплинах и даже попытками приблизиться к построению так называемой «большой теории». Тектонические сдвиги наблюдаются в когнитивных науках, нейрофизиологии, феноменологии, нейролингвистике, философии сознания, уже не говоря о теориях искусственного интеллекта, физики, математики, биологии, генетике. Но всё же наиболее радикальные силовые линии в мировом интеллектуальном пространстве дерзко и подчас безаппеляционно очерчивают новые не-человеческие антропологии, плоские или тёмные онтологии, спекулятивный реализм в разных своих проявлениях, постгуманизм, ингуманизм и другие направления мысли последних нескольких десятков лет. Эти направления разрывают оболочки антропоцентристской исключительности, которая отражается согласно спекулятивному реализму в идее «корреляционизма»(1) , и вновь поднимают казалось бы похороненные постмодернизмом метафизические вопросы о доступе к Реальности, о прикосновении к Великому Внешнему (термин К. Мейясу). Это можно счесть безусловной заслугой новых гибридных стратегий.
Заняв на заре Нового времени первое место в мироздании человек не просто всё подмял под себя. Ведь речь идёт не о человеке в целом, а именно о белом человеке — «разумном» продукте эпохи Просвещения. Именно этот человек, заняв центральное место во вселенной, стал подчинять себе весь мир, подвергать репрессиям и насильственным коррекциям всё то, что не вписывалось в установленные им же рациональные нормативы бытия. Репрессиям подвергся весь не-белый мир, включая не-белых людей, считающихся недочеловеками (варварами или даже животными). Поэтому развенчание антропоцентризма как
Тем не менее, как бы там ни было, речь идёт о человеке как таковом, пусть даже и подчёркнуто (расово) белым. Поэтому скажем, что с нашей позиции, уравнивание человеческих и
И возникает вопрос: не будет ли свидетельствующая инстанция, скорее всего, опознана материалистической оптикой ингуманистических стратегий как нечто мистическое, панпсихическое и на этом основании отвергнута как проявление обскурантизма? Вполне возможно. Поэтому нам следует быть осторожными в оценке этих стратегий. Во всяком случае, несмотря на привлекательность определённых идей рассматриваемых нами здесь интеллектуальных трендов, — например, критики посткантианского «корреляционизма» как интеллектуального апогея антропо-аутизма — мы не можем сейчас ни солидаризироваться с этими «поворотами», ни отрицать их значимость, пусть и тактическую в деле освобождения от
Что тогда остаётся от человека? Только вычислительная способность картезианского ratio. А вот здесь уже вовсю заявляет о себе недосягаемый по математической мощи конкурент рационального человека — техносфера: тема искусственного интеллекта и робототехники как куда более эффективных агентов природы. Умные машины вполне могут научиться — если уже не научились — выполнять вычислительные операции быстрее и качественнее человека. Гипертрофированная и автоматизированная рациональность кремниевого «мозга» не оставит никакого шанса человеку в операциях обработки сверхскоростных потоков информации. А значит человек будет просто отменён как слабое звено эволюции или же, насильственно рекомбинирован с помощью технологических интервенций. Эта перспектива, как известно, рассматривается постгуманизмом, который считает эволюцию человека незавершённой и сулит ему неизбежную гибридизацию посредством сращивания с технологическими агрегатами. А это уже есть перспектива фундаментального и тотального умерщвления субъектного начала в человеке (как потенциального агента упомянутой свидетельствующей инстанции) и достижения Актуальным гомогенной имманентности, или, другими словами, отождествления Актуального с самим собой как абсолютом, освободившимся от любых живых точек возбуждения гомогенного поля и возмутителей абсолютного «кладбищенского» спокойствия (своеобразная парафраза тепловой смерти вселенной).
Примечания
(1.) В своём программном трактате «После Конечности» К. Мейясу определяет корреляционизм как «идею, согласно которой мы всегда имели доступ только к корреляции между мышлением и бытием, и один термин никогда не рассматривался в отрыве от другого». (Meillassoux, Quentin. 2008. After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency. Trans. Ray Brassier. London: Continuum).
