Воплощение свободы: как альтернативные школы и университеты конструируют образ свободы через теорию и практику
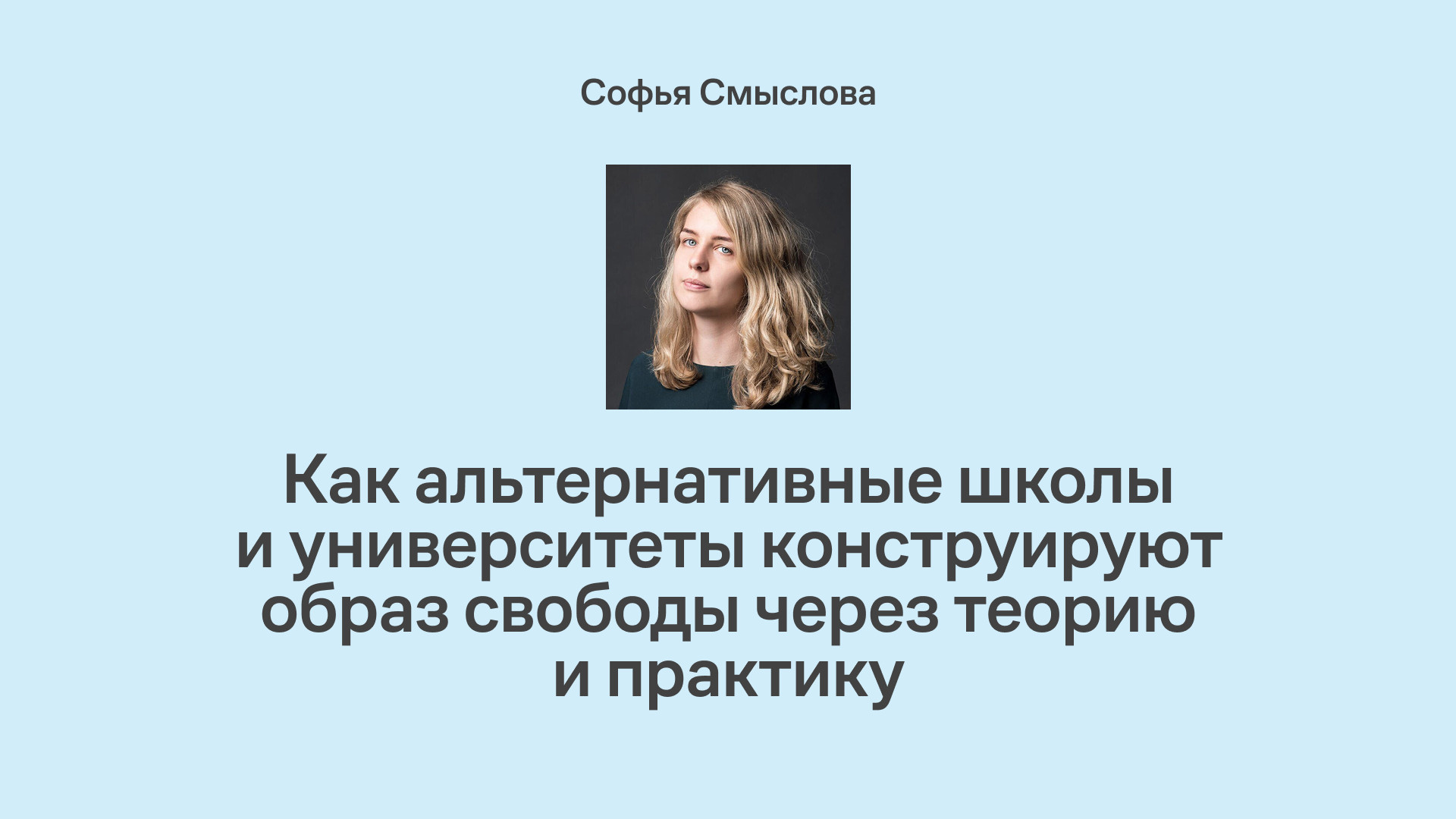
Что понимается под свободой образования? Для одних это возможность учиться без оценок и наказаний, для других — право на критику власти и устоявшихся правил, а для третьих — это шанс вместе создавать новые формы жизни и знания. Мы публикуем колонку PhD исследовательницы образования, авторки канала overtherivercam Софьи Смысловой. В этом тексте она пытается проследить, как в образовании рождались разные образы свободы, где они сталкивались, пересекались или растворялись друг в друге от критической педагогики Паулу Фрейре до современных пост-критических и пост-гуманистических практик. Исследовательница приходит к выводу о том, что свобода в образовании никогда не бывает раз и навсегда данной. Она всегда в движении, всегда под вопросом и требует новых способов быть вместе и учиться.
Образование испокон веков легитимизировало и поддерживало статус-кво; точно также, оно постоянно апеллировало к дискурсу свободы и утверждало необходимость освобождения (от чего? от кого? во имя чего?). В этой небольшой обзорной статье я попробую картографировать разные течения, практики и подходы, обозначая принципиально разные представления (а также их пересечения и возникающие серые зоны) о свободе в/и образовании. Стоит отметить, однако, что в моем повествовании неизбежны генеральные обобщения — так, например, в одной только анархистской педагогике существовали довольно разные теоретические лагеря (например, анархистская школа La Ruche предполагала намеренно сконструированную коммуну как пространство образования, что расходилось с идеями другого теоретика анархии — Колина Уорда и его инкорпорированной в город педагогики повседневности). Тем не менее, не претендуя на академическую точность, некоторые теории, более близкие к другу другу по смыслу, будут генерально объединены в более крупные группы.
Прежде, чем говорить о конкретных примерах и анализировать через них образ свободы, стоит очертить инструментарий, имеющийся у образования, для достижения этой самой свободы (предполагая, что свобода есть цель, что, разумеется, применимо далеко не ко всем образовательным практикам).
В рамках этого текста я предлагаю выделить три категории инструментов — метод, содержание и институционализация — которые в образовательном процессе сопряжены для достижения любой цели.
Занимательно, что в разных секторах будет стремление использовать разные категории — так, например, школа будет в большей степени «освобождаться» за счет метода, а университет — за счет содержания (на этой разнице я чуть позже остановлюсь подробнее). Институциональная же форма (организационное и системное устройство институции) в нашем случае являются скорее следствием (хоть и серьезно со-конструирующим применение) практикуемого метода и/или содержательного подхода, поэтому отдельно останавливаться на этом аспекте этот текст не будет. Соответственно, начнем со следующей кластеризации: свобода через метод (педагогика) и свобода через содержание.
Одним из наиболее ярких примеров освободительной педагогики последних столетий можно назвать критическую. Выросшая, с одной стороны, из критической теории, с другой — через призму латиноамериканского опыта обучения читательской грамотности, критическая педагогика представляла собой диалоговую форму развития учащегося, со временем обучения осознающего окружающие (и угнетающие) его или ее социальные структуры. Такая форма освобождения через образование, ставящая задачу развития критического сознания (conscientização) была развита и популяризирована бразильским педагогом Паулу Фрейре в его книге «Педагогика угнетенных» (оригинально написанной 1968 году). Это пробуждение и осознание своего истинного положения и представлялось как свобода, а образовательный процесс, соответственно, средство ее достижения.
Примечательно, что воплощение критической педагогики часто сталкивалось с «ограниченным пробуждением». То есть теоретически (и это неоднократно подчеркивалось как самим П. Фрейре, так и его последователями, например в работах Генри Жиру, белл хукс или Майкла Эппл) критическая педагогика ставила перед собой задачу деконструкции угнетающих социальных структур и преобразования мира, но на практике педагогически не предлагало никаких методов изменения реальности. Под свободой подразумевалось «ясное видение» собственного положения (выраженное в достижении критического сознания), однако дальнейшая траектория действий (в образовательном процессе) развивалась очень ограниченно и скорее предполагалось, что «пробужденные» учащиеся сами поймут как им теперь менять несправедливую реальность — сконструируют свою собственную практику (praxis). Именно эта ограниченность станет одной из отправных точек для развития пост-критической педагогики уже в XIX веке, о которой я упомяну чуть позже.
Другой школой, также ставившей во главу угла свободу, была анархистская теория и выросшая из неё анархистская педагогика. Она исходила из убеждения, что образование должно освобождать человека от внешнего принуждения (выраженного в первую очередь в иерархии и ее последующей институционализации, упирающейся в бюрократию), развивая самодисциплину, способность к самоорганизации и взаимопомощь. В отличие от критической педагогики, ориентированной в конечном счете на трансформацию несправедливых социальных структур, анархистская практика предлагала более префигуративный подход — создание альтернативных, свободных от системы пространств, здесь и сейчас. Именно это стремление создавать острова свободы, не стремясь (или очень ограниченно стремясь) трансформировать окружение, в определенном смысле маргинализировало анархистское образование, которая создавала «пузыри свободы» в несвободном мире.
В практике обучения либертарная педагогика воплощалась в школах свободного воспитания: от Ясной Поляны Л. Н. Толстого до Современной школы Ф. Феррер-и-Гуардия. Практики включали отмену телесных наказаний, совместное управление, смешанные группы (по полу и возрасту), обучение, исходя из интересов учащихся (что в начале 20 века еще было довольно радикальным явлением), а жизнь коллектива регулировалась собраниями и договорами (более или менее формальными).
Анархистская (или либертарная — то есть, дословно, освободительная) педагогика стремилась вырваться из опутывающей институциализации и предлагала горизонтальные самоорганизующиеся коллективы как альтернативу бюрократии и иерархии систем.
Схожим педагогическим течением в XX веке стало направление демократического обучения — с одной стороны, перекликающимся идеологически с либертарной педагогикой, с другой — полярно противоположным по своим фундаментальным ориентирам. Если в анархизме свобода формулировалась «от/вне», то в демократическом обучении (несмотря на внешнюю схожесть проявления методов) свобода была «в рамках/внутри» — за счет системы и практик (демократического) со-существования (хотя, возможно, полезнее было бы представить эту связь со свободой как продолжающийся континуум, нежели чем полярное противоречие). Можно сказать, что если анархистская парадигма предполагала освобождение за счет создания альтернативной реальности, то демократическая конституировала свободу в рамках гражданских практик демократического же общества.
Эти идеи отразились в направлении демократических школ, например, Саммерхилл А. Нилла или школы типа Sudbury Valley. Они делали акцент на автономии, самоуправлении, совместной выработке норм и ответственности за принятые решения, хотя чаще опирались на демократические процедуры большинства, чем на анархистские идеи консенсуса. Несмотря на теоретические противоречия демократии и анархии как социально-политических концепций, педагогические принципы двух философий оказались довольно схожи и понимали свободу преимущественно как право на самоопределение и опыт ответственного выбора — не вседозволенность, а возможность выбирать цели, действовать без внешнего принуждения и нести ответственность перед сообществом, соблюдая добровольно принятые правила и не нарушая свободу других.
Несмотря на то, что коллективный аспект существования (горизонтальные сообщества, содействие и помощь ближним) был важным компонентом образовательного процесса, свобода что в критической педагогике, что в анархистской или демократической понимались в первую очередь в индивидуальном смысле (особенно в европейской адаптации) — освобождение личности; варьировались же лишь отношения с внешним миром (преобразование, полное отчуждение или со-существование). В сравнении, например, с восточной традицией (особенно в педагогических идеях, произрастающих из конфуцианства), где свобода вследствие образования осмысляется скорее как как моральное состояние — внутренняя свобода через дисциплину, жестко регламентируемая коллективными договоренностями и правилами сообщества.
Университетские освободительные принципы же изначально отстраивались по другой оси: если школа — это (чаще всего обязательный) институт воспроизводства общества, то университет — это (добровольная) корпорация (вос)производства знания (хотя и интеллектуальная практика испокон веков была сопряжена с репродукцией иерархий и власти, ведущая задача утопической концепции гумбольдтовского университета — это свобода от государства и его навязанного статуса-кво во имя поиска истины). Соответственно, школа переосмысляется через метод (организующий образовательную среду; также как общественные нормы и правила организуют совместную жизнь людей). Университет же переосмысляется через отношения с/к знанию, то есть в первую очередь содержанию (что именно преподается, изучается и исследуется). Освободительная практика, таким образом, упирается в идею свободы изучения, исследования, высказывания и концентрируется в таком понятии как «академическая свобода» (само по себе понятие академической свободы больше и шире лишь свободы исследования и изучения, но в рамках данного текста я сконцентрируюсь именно на этом ее аспекте).
Изначально предложенная как «свобода от идеологического влияния или политической зависимости», сегодня академическая свобода понимается и одновременно как независимость от существующих идеологических структур (религиозных ли или политических), и в то же время как свобода быть сопричастным и выражать свою позицию, мнение и перспективу без цензуры от общества или государства.
Стоит отметить, однако, что воплощаясь на практике, диалог об академической свободе неразрывно сопряжен с рефлексией о властной динамике. Это находит отражение в деколониальном дискурсе; ведь если говорить о «свободе через содержание», неизбежно встает вопрос чьё знание признается каноном. Деколониальная оптика, выраженная в данном случае в идеях эпистемической справедливости, ставит под вопрос организацию современного знания, требуя альтернативных голосов и источников познания. Таким образом, свобода будет пониматься не только как освобождение от дисциплинарных рамок, или право на свободное преподавание и изучение вне догмы, но и как перераспределение эпистемической власти: кто может называться знающим, какие формы знания допустимы, как устроена их проверка и передача.
Резюмируя секторальный водораздел, можно было бы предположить, что освобождение в школьной среде (на уровне школьного возраста) — это в первую очередь практика переустройства социальных отношений обучения (диалог, равенство, участие), чтобы ученики становились авторами смысла внутри неизбежно стандартизированных рамок (или, как в анархистской теории — создание за пределами рамок тотально). Университетское же освобождение — это защита права на выбор и критику содержания и методов исследования/преподавания. На практике же, сегодня разделительная линия между этими типами институций гораздо более размытая — школа борется за переосмысление содержания (например, отрицая индустриальную модель разделения дисциплин на предметы и предлагая таким модели обучения, как феномено-ориентированный подход к организации учебного плана. В то время как университет адаптирует метод, конструируя за счет него альтернативную образовательную среду, связанную не столько с первоначальными целями «знаниевой корпорации», сколько с воспитанием и становлением личности. Не говоря уже об изначально серых зонах, как например, критическая педагогика, практиковавшаяся в неформальном обучении взрослых, а позже адаптированная и в высшем, и в школьном образовании.
Постмодернистские философские направления переосмысляют наследие XX века и предлагают и другие «освободительные» движения; например, идеи пост-критической педагогики делают шаг в сторону практик трансформации (фундаментируя praxis не только как этап деконструкции или преобразования, но и как практику созидания и заботы). Продолжая размышлять (в духе Бруно Латура) о конце критической теории, которая в свою очередь ставила перед собой задачу декомнструкции угнетающих социальных структур и изучении динамики власти, пост-критическая перспектива предлагает перейти от непосредственно критике к сохранению и созиданию того, что составляет хорошее. Эта парадигма предлагает вернуть в центр занятие (studying) как длительное совместное внимание к миру и к вещам знания, не сводимое к немедленной инструментализации и/или разоблачению.
Свобода здесь мыслится как возможность быть вместе с миром в (созидательной) практике учения, удерживая поле смысла, а не только разрушая опрессивную гегемонию или проектируя активистскую интервенцию.
Это не отменяет критики как опорного шага (поэтому и пост–критическая), но настаивает на иных режимах внимания, темпа и присутствия.
Вместе с тем, пост-антропоцентрический (или пост-гуманистический) поворот предлагает освобождать скорее не людей, а от них — иными словами, пересматривать идею иерархии, децентрируя человека как единственного носителя агентности. Философское представление пост-антропоцентризма представляет человека не как центр вселенной (как, собственно, в идеях антропоцентризма), а как одного из элементов сложной системы живых и неживых существ, связанного и равно другим участвующим. В образовании это означает внимательность к «больше-чем-человеческим» аспектам: материальным средам, технологиям, природным экосистемам. Свобода перестает быть исключительно человеческой «собственностью» и мыслится как конфигурации возможностей и зависимостей в сетях людей и не-людей. Педагогически это ведёт к экологическим и техно-критическим практикам, где воспитание ответственности — это не только про индивидуальные права ученика или даже коллективные права сообщества, но и про способы со-бытия с иными.
Кроме того, нарастающе важным вектором пост-модерна становится цифровая, или алгоритмическая свобода — в век адаптивных платформ и цифровых следов, практики образования со всего мира манифестируют свободу от технологической (отметим, настроенной на извлечение прибыли) инфраструктуры. Платформизация образования, прокторинг, аналитика учебных данных, персонализированные рекомендации и оценивание радикально меняют как социальные, так и образовательные практики. С одной стороны, открытые ресурсы и наука расширяют свободу доступа и участия в производстве знания. С другой — управление данными, поставленное на службу коммерчески ориентированных образовательных компаний, создает новые непрозрачные формы доминирования. Можно было бы сказать, что критический анализ скрытого учебного плана теперь адресует не только содержание, не только метод, но и цифровую структуру — кто и зачем собирает и обрабатывает данные, определяет метрики успеха и управляет вниманием и фокусом за счет (или вопреки) цифровым пространствам.
В завершение хочется подчеркнуть, что размышления о свободе в образовании, культивируемой или заявляемой, будь то через метод или содержание, приобретают особую остроту в контексте современных университетов. Сегодня они функционируют на пересечении нескольких напряжений: между глобальными академическими стандартами и локальными политико-культурными условиями; между стремлением к автономии и необходимостью интеграции в экономические и технологические инфраструктуры; между сохранением традиций и требованиями радикального переосмысления знания и практик созидания смыслов.
В российской действительности вопрос свободы в университете нередко сопряжен не только с академической, но и с экзистенциальной безопасностью — правом на высказывание, исследование и участие в академическом сообществе без угрозы репрессий или маргинализации. Здесь подходы критической, анархистской, демократической и пост-критической педагогики могут служить не столько прямыми моделями, сколько репертуаром стратегий. Может быть, это формирование «островов свободы» в рамках университетских пространств (формальных и неформальных) или выстраивания долгосрочных, заботящихся форм со-бытия. Задачей будет через использование идей и практик «освободительных» теорий создавать пространства и процессы, представляющие возможность существовать в альтернативной темпоральности, не ориентированной на преобразование здесь и сейчас (если оно невозможно или опасно), а позволяющей созидать для будущего, где свобода понимается не только как «свобода от», но и «свобода для совместного сосуществования».
