«Хорошие люди и грязная работа»

Предисловие
Перед вами — простой текст, сложенный из простых слов, отвечающий на простой вопрос: почему люди поддерживают насилие, и как они себе объясняют эту поддержку? И какую ответственность они готовы брать на себя?
Такими (и схожими) вопросами Эверетт Хьюз, автор доклада и легендарный социолог профессий, задавался многие годы. В центре этого доклада, как и в других его текстах, — «грязная работа». Хьюз использовал этот термин, отделяя работу, очищенную от престижа, от той, что в престиже спрятана. Его завораживало, как люди повышают себе цену, изобретая сложные слова, которые скрывают истинную суть профессии и позволяют выгодней смотреться на рынке. И как одни люди говорят гадости о других, и наоборот. И почему они продолжают делать то, что делают, — и как объясняют это себе.
Хьюз всегда писал ясно, без украшательств, аккуратно развивал аргумент и редко позволял себе оценочные суждения. В этом докладе, прочитанном в 1948 году в университете Макгилла, Хьюз изменил правилу и скупо, но горько говорил о тех, кто поддерживает насилие. Доклад суммировал заметки и наблюдения, которые Хьюз, один из пионеров полевой социологии, вёл в течение полугода в послевоенном Франкфурте, — постоянно беседуя с коллегами, людьми творческого круга, прохожими и, в
Считаю, что ясность его аргументации и безусловная гуманность его взгляда значимы и сегодня, особенно сейчас. Слышать, понимать, и не бросаться ярлыками, — задача невыносимая, и полагаю, что Хьюз может немного помочь.
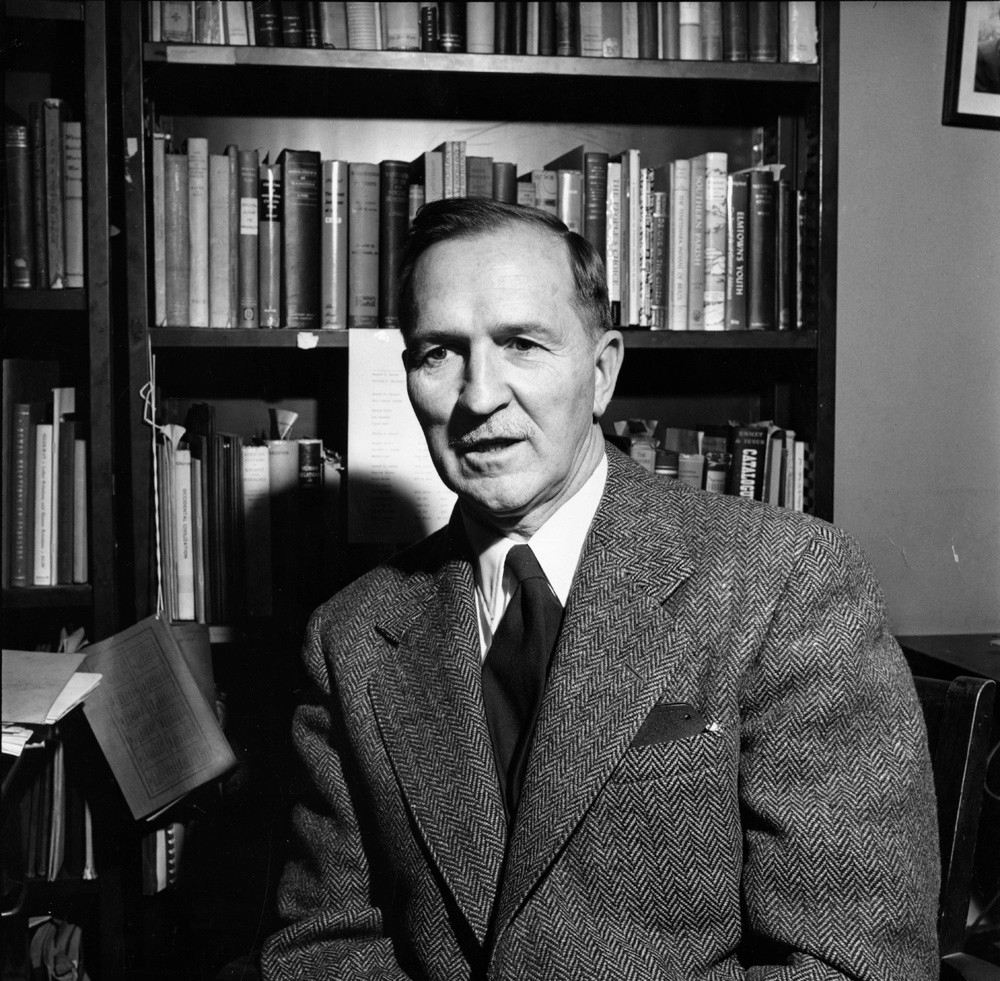
***
«…Секта — ядро и фермент каждой толпы…
Изучать толпу — значит, судить по тому, что видишь на сцене;
изучать секту — значит, судить по тому, что видишь за кулисами»
Сципион Сигеле, «Психология сект» (1895)
Национал-социалистическое правительство Германии, действуя руками своей фанатичной внутренней секты СС, более всего известной под именем «чернорубашечников» или «элитной гвардии», занималось и хвалилось самым колоссальным и драматичным объемом грязной работы, которую когда-либо знал мир. Возможно, есть и другие претенденты на этот титул, но они не могли бы соперничать с этим претендентом в комбинации массы, скорости и порочной гордости своими деяниями. Почти все народы имеют достаточно жестокости и смертей, требующих объяснения.
Сколько чернокожих американцев погибло от рук линчующих толп! Насколько больше умерло от болезней, которых можно было избежать, от недостатка пищи или от отсутствия знаний о питании! Как много русских погибло во имя коллективизации земли! И кого винить в том, что в некоторых частях земного шара миллионы страдают от истощения, тогда как в других на полях вовсю колосится пшеница?
Я вспоминаю нацистское Endlösung (окончательное решение) еврейской проблемы не для того, чтобы осудить немцев или заставить их выглядеть хуже, чем другие народы, а для того, чтобы донести до вашего внимания опасности, которые всегда таятся среди нас. Нижеследующее было написано в основном после моей первой послевоенной поездки в Германию в 1948 г. Впечатления были еще свежими. Факты не потускнели от времени и не исчезли, в отличие от историй о предполагаемых германских зверствах в Бельгии в Первую мировую войну.
Чем полнее записи, тем хуже они схватывают суть.
Несколько миллионов людей были согнаны в концентрационные лагеря, действовавшие под руководством Генриха Гиммлера при содействии Адольфа Эйхмана. Несколько сотен тысяч каким-то образом выжили. Еще меньше людей вышли из них здоровыми душой и телом. Пара примеров, хорошо проверенных, покажет крайнюю степень порочной жестокости, которой достигли в лагерях эсэсовские охранники. Заключенных заставляли лезть на деревья, а охранники били их кнутами, заставляя взбираться быстрее. Как только они оказывались вне досягаемости, других заключенных, также подстегивая кнутом, заставляли трясти деревья. Когда жертвы падали, их пинали ногами, дабы проверить, могут ли они подняться на ноги. Тех, кто получал слишком сильные увечья и не мог встать, расстреливали как непригодных к работе. Немало заключенных было утоплено в ямах, наполненных человеческими экскрементами.
Эти примеры столь ужасны, что ваш разум будет стараться отвернуться от них. Вы не будете, как при чтении слегка непристойного романа, домысливать остальное.
Поэтому я обрушиваю на вас эти примеры и утверждаю, что люди, которым они пришли в голову, могли придумывать и придумывали другие, подобные им и даже еще худшие, изо дня в день на протяжении нескольких лет.
Многие жертвы лагерей падали духом (это библейское выражение лучше всего подходит) от сочетания унижения, истощения, усталости и физических надругательств. Со временем к индивидуальной виртуозности в жестокости добавилась политика массового уничтожения в газовых камерах.
Эта программа (а это была программа) жестокости и человекоубийства осуществлялась во имя расового превосходства и расовой чистоты. В основном, хотя ни в коем случае не исключительно, она была направлена против евреев, славян и цыган. Она была тщательно проработанной. На территориях, которые находились под контролем Третьего рейха — в двух Германиях, Голландии, Чехословакии, Польше, Австрии, Венгрии, — евреев осталось мало. Многие французские евреи были уничтожены. Даже в Тунисе и Алжире во времена германской оккупации были концентрационные лагеря.
Когда во время поездки в Германию в 1948 г. я ближе познакомился с реакциями простых немцев на ужасы концентрационных лагерей, я обнаружил, что задаю себе не обычный вопрос: «Как расовая ненависть достигла столь высокого уровня?» — а совсем другой: «Как могла быть сделана такая грязная работа среди миллионов обычных, цивилизованных немцев и, в некотором смысле, ими самими?»

Тут же пришли и другие, связанные с этим вопросы. Как могли эти миллионы простых людей жить посреди такой жестокости и убийств, не восстав всей массой против этого и против тех людей, которые это делали? Как они могли, освободившись от режима, который все это делал, проявлять к этому так мало интереса и так упрямо об этом молчать не только в разговорах с посторонними (это еще как-то можно понять), но и в разговорах друг с другом? Каким образом и где в современной цивилизованной стране можно было найти сотни тысяч мужчин и женщин, способных на такую работу?
Каким образом эти люди были избавлены от запретов цивилизованной жизни настолько, что стали способны вообразить и, более того, совершить те зверские, непристойные и отвратительные действия, которые они вообразили и совершили? Как могли они годами удерживаться на такой вершине дикости, вынужденные ежедневно наблюдать вокруг себя совершаемое ими человекоубийство и часто буквально забрызганные по уши той грязью, которая производилась и аккумулировалась их действиями?
Вы увидите, что здесь имеется два ряда вопросов. Один из них относится к хорошим людям, которые сами эту работу не делали. Другой касается тех, кто ее делал. На самом деле эти ряды вопросов нераздельны; ибо ключевой вопрос, касающийся хороших людей, — это их связь с людьми, делавшими грязную работу, и с этим вопросом связан второй, а именно, при каких обстоятельствах хорошие люди позволяют другим совершать такие действия безнаказанно.
Простой ответ касательно немцев состоит в том, что, в конце концов, они не были такими уж хорошими. Мы можем приписать им особое врожденное или укоренившееся расовое сознание, соединенное со склонностью к садистской жестокости и беспрекословным принятием всего, что делается людьми, которые оказались у власти.
Доведенный до крайности, этот ответ просто делает высшей расой нас, а не немцев. Это нацистское звучание, наложенное на наши слова.
Так вот, есть глубокие и трудноустранимые различия между народами. Быть может, история и культура немцев делает их особенно восприимчивыми к доктрине своего расового превосходства и особенно готовыми к молчаливому согласию с действиями всех, кто бы ни обладал властью над ними. Эти вопросы заслуживают самого пристального изучения. Но говорить, что эти вещи смогли случиться в Германии просто потому, что немцы отличны — от нас, — значит поддержать их самооправдания, а кроме того, это очень легко позволяет нам уйти от обвинения того, что произошло там, и от вопроса о том, не может ли то же самое произойти здесь.
Определенно, в своей повседневной практике и экспрессии перед лицом гитлеровского режима немцы выказывали не больше, если не столько же, ненависти к другим расовым или культурным группам, чем это делали и делаем мы. Сегрегация проживания не была резко выраженной. Взаимные браки были обычным делом, и семьям, образованным такими браками, было в социальном отношении существовать легче, чем обычно бывает в Америке. Расово чистых клубов, школ и отелей наблюдалось гораздо меньше, чем здесь. И я хорошо помню тот вечер 1933 г., когда один монреальский бизнесмен, человек во всех отношениях очень приятный, произнес, сидя у нас в гостиной: «Почему мы не признаем, что Гитлер делает с евреями то же самое, что надлежит сделать и нам?» В этом умонастроении не было ничего необычного, хотя в защиту людей, которые его выражали, можно сказать, что они, вероятно, не знали всей истины о нацистской программе уничтожения евреев, а если бы узнали, то просто бы не поверили. Базовые, скрытые в глубине чувства в отношении расы в Германии не отличались по типу от тех, которые существуют во всех западных и особенно англосаксонских странах. Однако я не хотел бы слишком на это напирать.
Я хочу лишь закрыть один из легких путей, уводящих от серьезного рассмотрения проблемы хороших людей и грязной работы, продемонстрировав, что немцы были и остаются примерно в такой же степени хорошими и в такой же степени плохими, как и остальные из нас, с точки зрения расовых чувств и — добавим к этому — представлений о достойном человеческом поведении.
Но какой была реакция простых немцев на преследования евреев и на массовые пытки и убийства в концентрационных лагерях? Разговор, в котором принимали участие немецкий школьный учитель, немецкий архитектор и я, дает представление о ней в яркой и образной форме. Беседа происходила в студии архитектора, и поводом к ней послужил мой довольно случайный визит в 1948 г. во

Архитектор: «Мне стыдно за свой народ, когда я об этом думаю. Но мы об этом не знали. Мы узнали обо всем этом лишь позже. Вы должны помнить, под каким давлением мы находились; мы были вынуждены вступать в партию. Нам приходилось держать рты на засове и делать то, что нам говорили. Это было ужасное давление. И
В этот момент архитектор говорил нерешительно и выглядел смущенным. Он продолжал: «О чем я говорил? Ах, это все скверное питание. Вы же видите, герр профессор, в какой нищете мы здесь живем. Часто случается, я забываю, о чем только что говорил. О чем я говорил сейчас? Совершенно забыл».
(Его замешательство, на мой взгляд, не было притворным. Многие немцы жаловались, что страдают подобной потерей памяти, и относили это на счет недостаточного питания.)
Я твердо произнес: «Вы говорили о потере национального достоинства и о том, как евреи все вокруг захватили».
Архитектор: «Ах, да! Так оно и было! Конечно, это был не способ решения еврейской проблемы. Но
Школьный учитель: «Конечно, теперь у них есть Палестина».
Я возразил, что Палестина вряд ли сможет всех их вместить.
Архитектор: «Профессор прав. Палестина не сможет вместить всех евреев.
Это было ужасно, убивать людей. Но мы же в то время этого не знали. И
Этот обрывок разговора, как мне кажется, передает основные элементы и саму тональность немецкой реакции. Он хорошо перекликается с формальными исследованиями, которые тогда проводились, и лишь в деталях отличается от других разговоров, записанных мной в 1948 г.
Одним из самых очевидных моментов, заключенных в нем, оказывается нежелание думать о сделанной грязной работе. В данном случае — возможно, случайно, а может быть, и нет — хороший человек пережил действительный провал в памяти прямо посреди разговора. На первый взгляд, тут все просто. Но психиатры показали, что эти вещи не так просты, как кажутся. Они проделали огромную работу по изучению сложнейших механизмов, при помощи которых индивидуальный разум не допускает до сознания неприятные и невыносимые знания, и показали, насколько серьезной может быть в некоторых случаях вытекающая отсюда потеря эффективности личности.
Между тем коллективное нежелание знать неприятные факты принимается нами в большей или меньшей степени как само собой разумеющееся. То, что люди могут хранить и хранят молчание о вещах, чье открытое обсуждение могло бы поставить под угрозу представление группы о самой себе, а следовательно, и ее солидарность, — это известно всем.
Это механизм, который действует в каждой семье и в каждой группе, имеющей чувство групповой репутации. Нарушение такого молчания считается нападением на группу и своего рода предательством, если молчание нарушается членом этой группы.
Это общее молчание позволяет развиваться групповым фикциям, например, что дедушка был не таким мерзавцем, как на самом деле, а человеком гораздо более романтичным.
И, на мой взгляд, можно доказать, что прежде всего оно противодействует выражению где-либо, кроме как в ритуале, коллективной вины. В нынешней Германии примечательно не то, что там так мало говорят о том, по поводу чего люди чувствуют себя глубоко виноватыми, а то, что об этом вообще говорят.
Чтобы понять этот феномен, нам надо выяснить, кто говорит о зверствах в концлагерях, в каких ситуациях и под действием какого стимула. На этот счет я располагаю лишь собственным ограниченным опытом. Одним из сильнейших моих впечатлений была первая послевоенная встреча с пожилым профессором, с которым я был знаком еще до нацистских времен. Он — героическая душа. Не склонившись перед нацистами, он и теперь ходит с высоко поднятой головой. Его первые слова, произнесенные со слезами на глазах, были такими:
«Как трудно поверить, что люди бывают такими дурными, какими они обещают быть! Гитлер и его люди говорили: «Покатятся головы». Но многие ли из нас, даже ярые его противники, могли поверить, что они и в самом деле это сделают!»
Этот человек в 1948 г. мог говорить и говорил самым естественным образом о нацистских зверствах не только людям вроде меня, но также своим студентам, коллегам и общественности, которая читала его статьи; он делал это везде, где только было возможно, в своих неустанных попытках реорганизовать германские университеты и вдохнуть в них новую жизнь.
У него не было ни навязчивого побуждения говорить, дабы иметь возможность простить себя или защититься, ни осознанной или неосознанной потребности хранить молчание. Такие люди были редкостью; сколько их было в Германии, я не знаю.
Другими случаями, в которых нарушалось это молчание, были случаи, когда я сам в учебной аудитории, в публичной лекции или на неформальных встречах со студентами откровенно говорил о расовых отношениях в других частях земного шара, включая линчевания, которые иногда происходят в моей стране, и ужасающую жестокость в отношении коренного населения в Южной Африке. Это сбрасывало защитную броню, так что некоторые люди говорили довольно свободно о том, что происходило при нацистском режиме. Но более обычными были ситуации, подобные ситуации с архитектором, когда я бросал какое-то замечание о жестокостях в ответ на жалобы немцев, что мир жестоко с ними обращается. В таких случаях обычно возникало выражение стыда, которое сопровождалось принесением всяческих извинений (включая то, что они были в неведении) и за которым следовал поспешный уход от этой темы.
В какой-то момент, рассматривая проблему «обсуждение или молчание», мы должны спросить: а что хорошие (т.е. обычные) люди в Германии знали об этих вещах? Ясно, что наиболее кровавые детали концентрационных лагерей СС хранило в строжайшей тайне. Даже высокопоставленные должностные лица в правительстве, армии и самой нацистской партии в какой-то мере держались в неведении, хотя, разумеется, именно они снабжали лагеря жертвами. Простые люди в Германии знали, что лагеря существуют; большинство знало людей, которые в них исчезли; некоторые видели жертв, ходячие скелеты в лохмотьях, когда их перевозили в грузовиках или поездах или когда они строем брели по дороге со станции в лагерь или на работу в поля или на фабрики в окрестностях лагеря. Многие знали людей, освобожденных из концентрационных лагерей; эти люди под страхом смерти хранили свою тайну. Секретность взращивалась и поддерживалась страхом и террором.
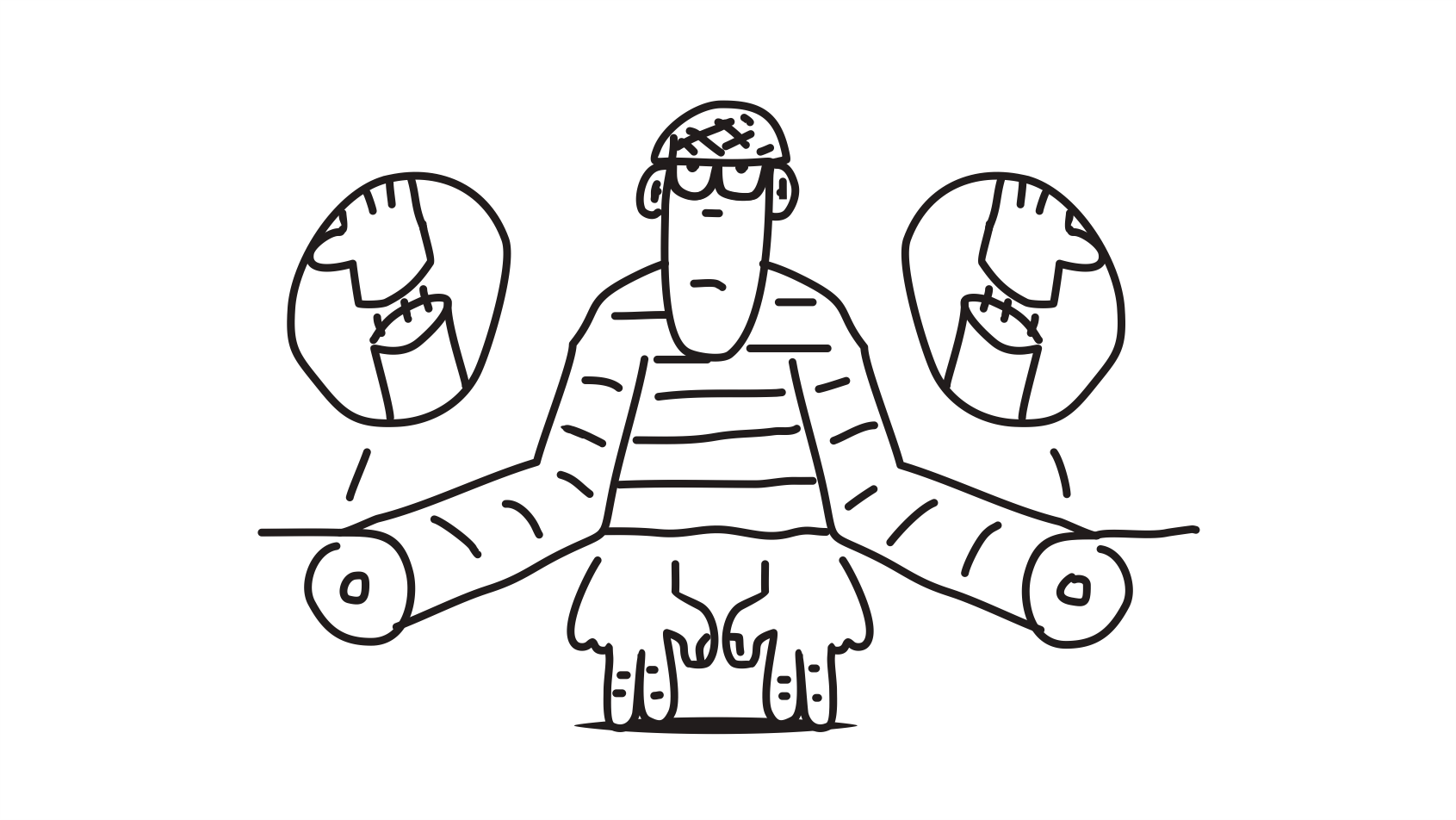
В отсутствие решительной и героической воли к знанию и обнародованию истины и в отсутствие всяких инструментов оппозиции степень знания была, несомненно, низкой, несмотря на то, что всем было известно, что происходит что-то масштабное и чудовищное, и несмотря на то, что в Mein Kampf Гитлера и в речах его приспешников говорилось, что нет участи слишком ужасной для евреев и прочих ошибочных или низших народов.
А следовательно, мы должны спросить, при каких условиях воля к знанию и обсуждению сильна, решительна и эффективна?
Этот, как и большинство других поднятых мною важных вопросов, я оставляю без ответа, если не иметь в виду ответы, которые могут содержаться уже в самой постановке проблемы.
Но вернемся к нашему умеренно хорошему человеку, архитектору. Он снова и снова настаивал, что ничего не знал, и мы можем предположить, что он знал не больше и не меньше, чем большинство немцев. Но при этом он давал ясно понять, что хотел, чтобы с евреями что-то сделали. В моем распоряжении есть похожие утверждения, исходившие от людей, о которых я знал, что у них до прихода нацистов были близкие друзья среди евреев. И это ставит во весь рост следующую проблему: в какой степени парии, делающие грязную работу общества, действуют в действительности как агенты всех нас остальных?
Чтобы приступить к обсуждению этого вопроса, нужно заметить, что, разъясняя свой случай, архитектор решительно вытолкнул евреев в они-группу (out-group); они были для него грязными, вшивыми и беспринципными (странное утверждение для жителя Франкфурта, родины старых еврейских купцов и интеллектуальных семей, издавна отождествляемых с теми аспектами культуры, которыми немцы больше всего гордятся).
Четко отъединив себя от этих людей и объявив их проблемой, он явно желал позволить кому-то другому сделать в отношении них ту грязную работу, которую он сам бы делать не стал и по поводу которой он выразил чувство стыда. Этот случай, наверное, аналогичен нашей установке по отношению к осужденным за преступления.
Время от времени мы поднимаем шум о жестокости, практикуемой в отношении заключенных в пенитенциарных учреждениях или тюрьмах, или, возможно, просто публикуем доклад о том, что их плохо кормят и что они живут в скверных санитарных условиях.
Возможно, мы не хотим, чтобы с заключенными жестоко обращались и плохо их кормили, но наша реакция, вероятно, сдерживается пониманием того, что они кое- чего заслуживают, в силу некоторой их диссоциации от мы-группы хороших людей.
Если то, что они получили, хуже того, о чем нам приятно было бы думать, то это уже некоторый перебор. В этом случае мы амбивалентны. Кампании за реформу тюрем часто сменяются контркампаниями против слишком высокого уровня жизни заключенных и против того, чтобы тюрьмами руководили всякие мямли. Так вот, люди, управляющие тюрьмами, это наши агенты. Насколько далеко они заходят или могут зайти в осуществлении наших желаний, сказать трудно.
Младший тюремный охранник, хвастливо оправдывая некоторые свои наиболее сомнительные практики, говорит в итоге: «Если бы эти реформаторы и крупные шишки, отирающие задницы наверху, пожили с этими птенчиками, как я, у них бы быстро поменялись их дурацкие представления об управлении тюрьмой».
Он намекает на то, что хорошие люди либо наивны, либо лицемеры. К тому же он прекрасно знает, что желания его работодателя, общественности, никоим образом не чисты.
На него с равной вероятностью могут наброситься и за то, что он слишком добр, и за то, что он слишком суров. И если, как иногда бывает, он оказывается человеком, предрасположенным к жестокости, то может быть некоторая справедливость в его ощущении, что он всего лишь делает то, что другие были бы не прочь сделать сами, если бы осмелились, и что они бы делали, случись им оказаться на его месте.
В нашем мире я мог бы собрать сколько угодно примеров для сравнения с немецкой установкой в отношении концентрационных лагерей.
Например, в Денвере одна газета произвела большой скандал, высказавшись в том духе, что наших соотечественников-японцев слишком хорошо кормят в лагерях, куда они были согнаны во время войны. Я мог бы привести печальную историю людей японского происхождения в Канаде. Я мог бы сослаться на линчевания, на тот или иной аспект расовой дискриминации.
Но я намеренно беру заключенных, осужденных за преступления. Ибо заключенные официально изолируются для того, чтобы с ними обращались по-особому. Они образуют они-группу во всех странах. Это предельно ясно обнажает перед нами суть проблемы, ибо мало кто питает иллюзию, что проблема обращения с преступниками может быть решена пропагандой, призванной доказать, что никаких преступников не существует. Почти каждый согласится, что с ними что-то нужно делать. Вопрос заключается в том, что делается, кто это делает и какова природа тех полномочий, которые предоставляются остальными из нас тем, кто это делает.
Возможно, мы, сами не сознавая того, уполномочиваем их выйти за рамки и совершить то, что мы сами не только не рискнули бы сделать, но и не рискнули бы даже признать. Осмелюсь предположить, что вышестоящие и более знающие функционеры, действующие от нашего имени, представляют собой нечто вроде дистилляции того, что мы считаем нашими общественными чаяниями, тогда как некоторые из других демонстрируют своего рода концентрат тех импульсов, которые мы меньше сознаем или желаем меньше сознавать.
Так вот, выбор заключенных в качестве примера выводит нас на еще одну критическую точку в межгрупповых отношениях. Во всех сколько-нибудь крупных по размеру обществах есть мы-группы и они-группы; и в самом деле, один из лучших способов описать общество — это рассмотреть его как сеть больших или меньших по размеру мы-групп и они-групп. И любая мы-группа является таковой только потому, что есть они-группы. Когда я говорю о моих детях, я, разумеется, предполагаю, что они мне ближе, чем дети других людей, и что для них я буду прилагать больше стараний купить апельсинов и рыбьего жира, чем для детей других. В действительности это может значить, что я буду давать им рыбий жир, хотя мне приходится заставлять их его глотать. Мы сами делаем грязную работу в отношении самых близких нам людей. Сама заповедь, велящая мне любить ближнего своего как самого себя, начинается с меня; если я не люблю самого себя и моих ближних, то это изречение наполняется очень мрачным смыслом.
Каждый из нас является центром сети мы- и
Если брать позитивную сторону, то обычно мы чувствуем больше обязательств перед мы-группами и, соответственно, меньше обязательств перед они-группами; и в случае таких групп, как осужденные преступники, они-группа решительно передается для наказания в руки наших агентов. Это крайний случай. Но есть и другие они-группы, в отношении которых мы испытываем агрессивные чувства и неприязнь, хотя не передаем никому официальных полномочий разобраться с ними от нашего имени и клянемся в убеждении, что они не должны страдать от притеснений и ущемления в правах. Чем больше их социальная дистанция от нас, тем больше мы как бы по оплошности оставляем в руках других мандат на расправу с ними от нашего имени.

Сколько бы сил мы ни вкладывали в попытки переделать границы, разделяющие мы- и
В Германии агенты вышли
При рассмотрении вопроса о грязной работе мы должны в конце концов подумать о людях, которые ее делают. В Германии это были члены СС и той внутренней группы СС, которая орудовала в концентрационных лагерях. Было подготовлено много отчетов о социальных характеристиках и личностях этих жестоких фанатиков. Те, кто их изучал, говорят, что очень многие среди них были gescheiterte Existenzen, мужчинами или женщинами с историей неудачи, плохой адаптации к требованиям работы и тех классов общества, в которых они были воспитаны. Между войнами в Германии было очень много таких людей. Их приверженность движению, провозгласившему доктрину ненависти, была вполне естественной. Но это движение предложило нечто большее.
Оно создало внутреннюю группу, которая собралась превзойти всех других, даже немцев, в своей эмансипации от обычной буржуазной морали — подняться над обычной моралью и выйти за ее пределы. Я рассуждаю об этом не как о доктрине, а как об организационном принципе. Ибо, как говорил Ойген Когон, автор самого проницательного анализа СС и эсэсовских лагерей, нацисты пришли к власти, создав государство в государстве, организацию с собственными контрморалью и контрправом, собственными судами и своей системой исполнения наказаний в отношении тех, кто не соответствовал их установлениям и стандартам. Даже как движение СС имело внутренние круги внутри внутренних кругов; каждый из них был окутан завесой секретности для ближайшего внешнего круга. Борьба между этими внутренними кругами продолжалась и после прихода Гитлера к власти; в конце концов верх взял Гиммлер. Его СС стало государством внутри нацистского государства, точь-в-точь как нацистское движение стало государством внутри Веймарской республики. Вспоминается часто цитируемое, но недооцененное утверждение Сципиона Сигеле: «В центре толпы ищите секту».
Он, разумеется, имел в виду политическую секту — фанатичную группу внутри движения, стремящуюся захватить власть революционными методами. Как только нацисты оказались у власти, эта внутренняя секта, ставшая признанным агентом государства и, следовательно, народных масс, смогла в то же время почти полностью диссоциироваться от них в действии благодаря самому факту обладания полномочиями. Теперь ей совершенно не грозили вмешательство и расследование.
Ибо инструменты вмешательства и расследования находились в ее собственных руках. Они же — и инструменты секретности.
Таким образом, СС могло построить и построило могущественную систему, в которой получило возможность распоряжаться ресурсами государства и экономики Германии и завоеванных стран и красть из них все необходимое для осуществления своей расточительной и безнаказанной оргии жестокости.
Теперь зададим в отношении исполнителей грязной работы вопросы, аналогичные тем, которые задавались в отношении хороших людей. Есть ли запас кандидатов на такую работу в других обществах? Легко было бы сказать, что дать так много подобных людей способна только Германия. Ответ на этот вопрос содержится в самой его постановке. Проблема людей, выброшенных за борт (gescheiterte Existenzen), — одна из самых серьезных в наших современных обществах. Любой психиатр, я думаю, подтвердит, что мы имеем достаточный фонд деформированных личностей, склонных к извращенным наказаниям и жестокости и готовых сделать любой объем грязной работы, которую хорошие люди могут быть склонны морально поддержать. Не требуется какого-то очень уж крутого поворота событий, чтобы повысить число таких людей и вывести на поверхность их недовольство. Это не значит, что во главе каждого движения, основанного на недовольстве текущим положением вещей, будут стоять такие люди. Это очевидно неверно; и я подчеркиваю это, дабы не потворствовать тем, кто порицает каждого, активно выражающего свое недовольство.
Вместе с тем, на мой взгляд, изучение воинственных социальных движений показывает, что эти деформированные люди ищут в них место. Точнее говоря, они склонны становиться заговорщической, тайной полицией группы.
Одна из проблем воинственных социальных движений состоит в том, чтобы не допустить внутрь себя таких людей.
Сделать это, конечно, проще, если дух движения позитивен, его представления о человечестве возвышенны и включительны (inclusive), а цели разумны. В случае нацистского движения этого не было. Когон пишет: «Сотрудник СС был всего лишь высшим типом нациста вообще».
Но иногда такие люди привлекаются за неимением лучшего в движения, цели которых противоположны духу жестокости и наказания. Я бы предположил, что все мы поглядываем на руководство и антураж движений, к которым присоединяемся, в поисках признаков негативистской, суровой установки. Ибо как только такой дух в движении получает развитие, наказание ближайшей и наиболее доступной жертвы обычно становится более привлекательным, чем борьба за достижение принципиальных целей. И если нацистское движении вообще чему-то нас учит, так это тому, что если таким людям будут предоставлены хотя бы призрачные полномочия, они будут — при нашем согласии — увеличивать их все больше и больше.
Процессами, посредством которых они это делают, являются развитие власти и внутренней дисциплины в их собственной группе, прогрессирующее отсоединение их от правил человеческой благопристойности, существующих в их культуре, и все более нарастающее презрение к благосостоянию масс.
Власть и внутренняя дисциплина в СС стали такими, что люди, однажды ставшие его членами, могли покинуть его только со смертью, самоубийством, убийством или умопомешательством. Приказы, исходившие от центральных органов СС, формулировались обтекаемо, словно с целью подстраховаться от возможного судного дня. Когда стало ясно, что такой судный день близится, секретность и интриги еще более возросли; увеличилась и тяга к убийствам, ибо каждый узник становился потенциальным свидетелем.
И опять мы имеем дело с феноменом, обычным для всех обществ. Почти каждая группа, наделенная специализированной социальной функцией, является в какой-то мере тайным обществом, которое обладает своим корпусом правил, создаваемых и проводимых в жизнь его членами, и некоторой способностью защищать своих членов от внешнего наказания.
И здесь мы находим один из парадоксов социального порядка.
Без меньших властей, создающих правила и обеспечивающих дисциплину, общество вообще не было бы обществом. Не было бы ничего, кроме закона и полиции; именно этого и добивались нацисты, подавляя семью, церковь, профессиональные группы, партии и иные подобные ядра спонтанного контроля. Но, очевидно, единственным способом сделать это, будь то в благих или злодейских целях, является отдача власти в руки какой-то фанатичной небольшой группы, которая будет обладать гораздо большей самодисциплиной и гораздо большей защищенностью от внешнего контроля по сравнению с традиционными группами. Проблема, следовательно, не в том, что нужно избавиться от всех дисциплинирующих Я и протекционистских групп внутри общества, а в том, что надо удерживать их в интеграции друг с другом и поддерживать их максимальную восприимчивость к общественному мнению, которое всех их превосходит. Это проблема сдержек и противовесов, того, что можно было бы назвать социальной и моральной конституцией общества.
Люди, особенно ревностно пытающиеся выкорчевать из хороших людей как индивидов все те чувства, которые, видимо, вызывают большую и малую грязную работу мира, могут счесть мои замечания атакой на их методы. Они в известной степени правы; я настаиваю, что мы должны посвятить часть своих усилий задействованным здесь социальным механизмам, а не только индивиду и тем его чувствам, которые касаются людей иных родов.

Доклад был прочитан в Университете Макгилла в 1948 году.
Переводчик — Владимир Геннадьевич Николаев.
Иллюстратор — Паша Жирков.
Первая публикация на английском и на русском.
