Декларация прав и свобод человека и гражданина: как её претворить в жизнь?
22 ноября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав и свобод человека и гражданина. Значение этого документа трудно переоценить. Но еще труднее, видимо, будет претворить его в жизнь.
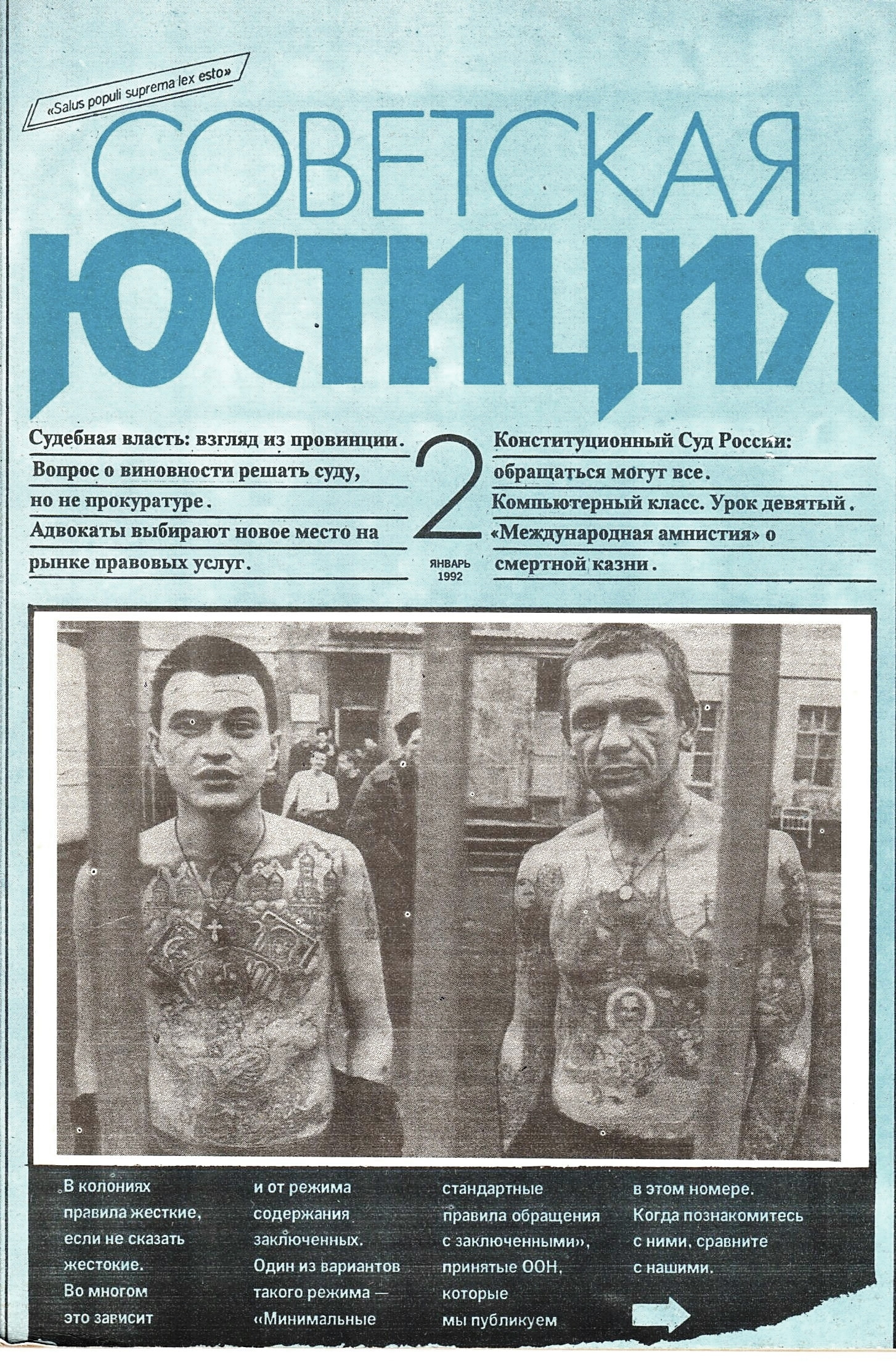
Понимая всю ответственность задачи, остановлюсь на одной частности. В ст. 34 Декларации записано, что «каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором компетентного, независимого и беспристрастного суда».
Юристами-практиками этот вывод толкуется однозначно: ст. ст. 6-10 УПК РСФСР подлежат отмене, ибо их реализация фактически означает признание человека виновным в досудебном порядке. Вывод о необходимости отмены указанных статей имеет большую прессу. За отмену ратуют известные юристы и политики, а также журналисты.
Их оппонентами в этом вопросе выступают нестройные ряды практических работников низового звена (участковые, следователи, начальники отделений милиции, помощники прокуроров районного уровня и т. п.). Практические работники среднего звена предпочитают свою точку зрения на этот счет не обнародовать, что не мешает им применять на практике указанный порядок.
Мысль сторонников отмены ясна и понятна. Позиция их противников маловразумительна и пребывает на уровне ощущений.
Именно неразработанность этой точки зрения и вызывает необходимость остановиться на ней подробней. Уж слишком очевидной является необходимость отмены, чтобы не удивиться стойкости законодателей, не обращающих внимания на столь явное попрание конституционных прав и свобод граждан. А изменить ситуацию будет, на мой взгляд, значительно легче, чем, к примеру, отменить ст. 6 Конституции СССР. Ибо вряд ли инициатива приведения законодательства к такому знаменателю встретит серьезный отпор среди депутатов различного уровня. Будучи внесенным на обсуждение, законопроект подобного рода, скорее всего, обречён быть принятым. И все же, все же…
Есть ряд вопросов, требующих в связи с обозначенной проблемой тщательного (как минимум) обсуждения. Итак, насколько мне известно, общественную значимость тезис о судебном порядке признания человека виновным получил в связи с практикой применения мер принуждения многочисленными несудебными органами.
Чем жестче были меры принуждения, тем большую необходимость в судебном разбирательстве ощущало общество. Но применение ст. ст. 6-10 УПК РСФСР не связано с назначением обвиняемому каких-либо мер наказания! Наоборот, прекращение дел по этим основаниям зачастую расценивается как оправдание, особенно среди несовершеннолетних. Иными словами, репрессивная мера в данном случае не применяется, каких-либо ограничений обвиняемый не несет, негативных последствий в виде наказания для него не наступает.
Но, человека признают виновным следователь и прокурор, которые подменяют в этом вопросе выборный суд. А это уже недопустимо.
Рассмотрим и этот вопрос. В значительной степени он, правда, уже решен как практикой, так и наукой. Действительно, виновным человека может признать только суд. Поэтому справедливым является утверждение, что все без исключения следственные изоляторы нашей Родины забиты невиновными, которые арестованы следователями с санкции прокурора и помещены туда до суда.
Справедливым будет и утверждение, что прокурор сознательно дает санкцию на арест невиновного человека, поскольку тот задержан на месте преступления и суд при самом благоприятном раскладе состоится нескоро. Ибо тот факт, что судить злоумышленника будут не на следующий день после задержания, а значительное время спустя, очевиден не только для журналиста, но и для прокурора. Но недрогнувшей рукой дается санкция, и невиновный человек отправляется в Бутырку или в Кресты, смотря где происходит дело.
Парадокс тут кажущийся, так как все следственные арестованные действительно невиновны, Но невиновны для общества. А прокурор, также как и следователь, убеждены в их виновности. Общественное бытие выделило некоторых чиновников, которым дано право принимать решение о виновности человека до суда. Иной порядок делает ненужными все следственные изоляторы, все нормы права о мерах пресечения и т.д.
Да на это, насколько мне известно, пока никто не покушается, поскольку заявления подобного рода являются посягательством на здравый смысл. Поэтому человек считается невиновным для общества до тех пор, пока чиновники, наделенные законным правом выносить иное суждение на этот счёт, докажут в суде свою (обратную) точку зрения. На данной стадии анализа дня нас важно то, обстоятельство, что следователь и прокурор наделены правом признавать человека виновным хотя бы для того, чтобы предъявить ему обвинение и поместить в следственный изолятор.
Но если практически никем не оспаривается право прокурора признать человека виновным, чтобы определить его под стражу, то почему встречает возражение право прокурора признать его виновным и не определять под стражу, а наоборот, избавить от такого рода негативных последствий?
Состязательность процесса и презумпция невиновности обязывают обвинительные власти доказывать вину подсудимого. Но
Всем все ясно, участники с нетерпением ждут окончания процедуры. Уместным будет вспомнить, что суд присяжных рассматривает дела только в тех случаях, когда подсудимый отрицает свою вину. В остальных случаях процесс упрощается. В государствах с развитыми судебными системами представлена более разнообразная палитра органов правосудия, чем у нас.
И в некоторой степени выбор органа, который будет рассматривать дело, зависит от обвиняемого (подсудимого), от того, какую позицию он займет. Таким образом, совпадение позиции обвинения и защиты является на Западе по сути дела юридическим фактом, способным менять направление процесса.
Но таким же «поворотным пунктом» является, к примеру, ст. 7 УПК РСФСР, когда процесс после «перевода стрелки» движется в сторону товарищеского суда или комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 8 УПК РСФСР). Излишне говорить, что прекращение дела по этим основаниям возможно только при совпадении позиций следствия, защиты и прокурора.
Хорошо, но вы представляете, какие злоупотребления возможны в этом случае? Пусть уже прекращениями таких дел занимается суд.
Исключить возможность злоупотребления нельзя. Сговор адвоката, следователя и прокурора возможен, как это ни смешно, но возможен не в большей степени, чем в суде. Ибо ни один законодатель по понятным причинам не пойдет на то, чтобы решение о прекращении принималось только по результатам судебного рассмотрения.
Максимум, где дела в основной массе будут прекращаться — это в распорядительном заседании, что согласитесь, не одно и то же. Судебный чиновник имеет такую же возможность, как и другие участники процесса, оформить сговор с заинтересованными лицами как совпадение позиций защиты и суда и прекратить дело в распорядительном заседании. Но подозревать в связи с этим всех и каждого никаких основания
С другой стороны, недобросовестность судебного чиновника выявить и изобличить гораздо сложнее, чем недобросовестность следователя или прокурора. Гарантией тому является судейский иммунитет (установленный вполне справедливо). Даже будучи изобличённым в злоупотреблении, выборное должностное лицо (судья) имеет гораздо больше шансов выйти сухим из воды, чем назначенное (прокурор, следователь). Легче убрать провинившегося чиновника назначенного, чем избранного. Парламентская практика — тому наглядное свидетельство. Так стоит ли подвергать суд дополнительным испытаниям?
Но если нельзя на 100% гарантировать законность принятого решения о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям не только на следствии, но и в суде, давайте вообще ликвидируем такую возможность, чтобы не искушать никакого чиновника: ни прокурорского, ни судебного.
Давайте, но как быть с правами советских граждан, о которых мы неустанно заботимся? Даже декларацию приняли.
Ибо сейчас многострадальный гражданин имеет право на то, что его дело может быть прекращено до суда, он не получит судимости со всеми вытекающими отсюда последствиями, избежит расходов на защиту и т.п.
У кого поднимется рука отнять у него такую возможность? Для кого в конечном итоге создан человек — для закона или закон для человека? Странной тогда получается декларация — вроде бы дает права, а на самом деле урезает их. Лишает обвиняемого малейшей вероятности своим поведением влиять на результат расследования дела на этой стадии процесса и фактически ликвидирует один из мощных стимулов к раскаянию, возмещению вреда и помощи следствию.
И какими соображениями при этом руководствуется? Благими побуждениями, абстрактной теоретической схемой, которая не соответствует всему многообразию жизни. Значит ли, что схема плоха? Нет. Но она нуждается в •уточнении, поскольку одно дело наказать человека во внесудебном порядке, и совсем другое — освободить от наказания. Амнистия или помилование — это ведь тоже внесудебный порядок освобождения от наказания.
Ведь существующий в
При соблюдении других условий (согласие потерпевшего и прокурора) дело, видимо, все же может быть прекращено. В любом случае прекращение дела по ст. ст. 6-9 УПК РСФСР невозможно, если обвиняемый против этого возражает. В условиях, когда судебная система захлёбываемся в делах, будучи не в силах переваривать постоянно увеличивающиеся объемы работ, такая возможность, судя по всему, имеет и прагматическое значение, заменяя собой клапан, позволяющий освободить суд от рассмотрения очевидных дел, не представляющих собой каких-либо сложностей. Нужно ли отказываться от возможностей разгрузить суд, если эти возможности не противоречат духу международно-признанных правовых постулатов?
Мы всегда отдавали предпочтение запрету как регулятору общественных отношений и недооценивали поощрительные способы, заставляющие человека поступать в соответствии с общественно полезными установками.
Так вот, изъятие из кодекса ст. ст. 6-10 УПК РСФСР фактически будет означать ликвидацию стимулятора к общественно полезному поведению. Сейчас соотношение близко к оптимальному: с одной стороны — реальная возможность благоприятного исхода при полном раскаянии, с другой стороны — мощная угроза уголовной репрессии при поведении с обратным знаком. Кнут и пряник, если хотите. Но пряник желают отнять (или сильно урезать) и практически оставить только кнут. Вряд ли это будет способствовать достижению тех целей, которые при этом ставятся.
Следует ли изложенное понимать как полную невозможность исключения из кодекса ст. ст. 6-10 УПК РСФСР. Отнюдь нет. Просто для такого меропрi1ятия следует подбирать другие основания, а не Декларацию прав и свобод человека и гражданина.
Источник
Декларация прав и свобод человека и гражданина: как её претворить в жизнь? / В. Панкратов // Советская юстиция, 1992, № 2. С. 2-3.
