Дело Главторга
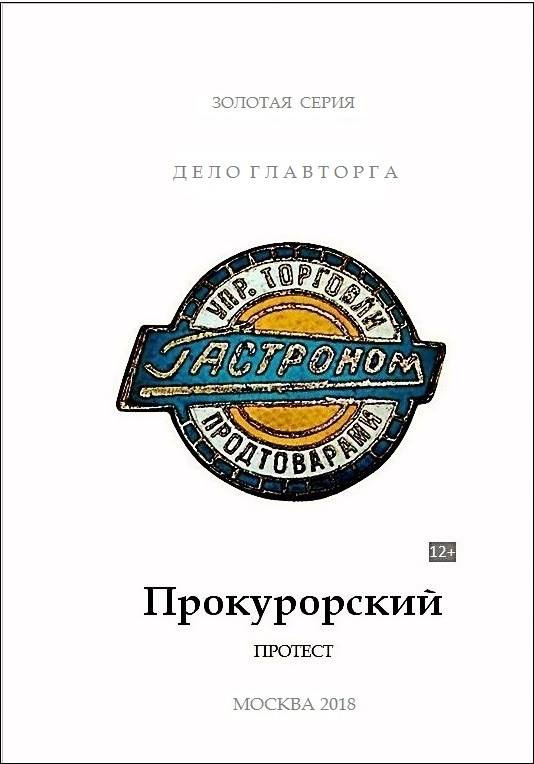
«Золотая серия» основана в 2006 году
Оформление серии В.В. Панкратов
Обложка. Автор идеи, дизайн В.В. Панкратов
На обложке аппликативная иллюстрация В. Панкратова «Гастроном»
Дело Главторга. Прокурорский протест. В. Панкратов — Москва: 2018. — 71 с.
Прокурорский взгляд на уголовное дело Главторга.
Категория 18+
© Владимир Панкратов. 2018.
© Владимир Панкратов. Оформление. 2018.
Тридцать лет назад (в 1988 году) состоялся приговор Московского городского суда по делу руководителей торга «Гастроном» Главного управления торговли Мосгорисполкома. Несколькими годами раньше (в 1983 году) Верховным судом РСФСР за взятки был осуждён директор «Елисеевского» гастронома Ю. Соколов.
В СССР работники торговли могли жить спокойно и безбедно до тех пор, пока не пытались переместить свои накопления за рубеж или конвертировать их на Родине в иностранную валюту, золото и бриллианты.
Маша имела мужа, 64 размер талии и должность завотделом в «Елисеевском» гастрономе, где занималась формированием продуктовых заказов для московской номенклатуры. Муж работал в одном из магазинов «Берёзка», сеть которых была создана Министерством внешней торговли СССР для торговли с иностранцами за валюту.
За валюту Машин муж и сбывал иностранцам чёрную икру, украденную женой при формировании продуктовых заказов. Нарушение правил о валютных операциях наказывалось лишением свободы от 8 лет или смертной казнью с конфискацией имущества, поэтому, спасая себя и мужа, Маша пошла на сделку со следствием и сдала своего директора со всеми потрохами.
Народу надо было показать виновных в отсутствии товаров на прилавках, в связи с чем В. Алидин из УКГБ по городу Москве и Московской области получил «добро» на проверку следственным путём причастности Ю. Соколова к совершённому преступлению (нарушение правил о валютных операциях относилось к комитетской подследственности).
Для начала в «Елисеевский» явились проверяющие из «госторгинспекции» в сопровождении представителей прессы. При контрольном перевешивании во всех упакованных и подготовленных в тот день к выдаче продуктовых заказах выявили недовес (обман покупателей). Под этим предлогом директора задержали.
Ю. Соколов сидел в Лефортовском изоляторе и от дачи показаний отказывался. Однако через неделю умер Л. Брежнев. Некоторое время спустя, следственный арестованный разговорился. Он признал вину в даче взяток руководству на сумму около 200 тыс. рублей и указал тайник, где хранил свою долю — свыше 60 тыс. рублей наличными и облигации государственного займа на сумму свыше 20 тыс. рублей (самая дорогая бутылка водки «Сибирская» стоила тогда 6 рублей 20 коп. за 0,5 литра).
Когда Генеральным секретарём ЦК КПСС стал Ю. Андропов, расследованию показаний Ю. Соколова о системе сложившихся в Москве коррупционных отношений было придано ускорение. На его показаниях арестовали начальника Главного управления торговли Мосгорисполкома Н. Трегубова и его заместителей. К уголовной ответственности привлекли руководство торга и директоров внеразрядных гастрономов «ГУМ», «Новоарбатский», «Смоленский».
Всего по делу Главторга устойчивые преступные связи объединяли между собой свыше 700 человек. Поскольку нарушения правил о валютных операциях им не инкриминировались, расследование уголовных дел КГБ передал в прокуратуру.
Такое количество фигурантов опровергает расхожий тезис об избирательном подходе к борьбе с коррупцией (дело возбудили, чтобы дискредитировать В. Гришина). Не просматривается он и в части назначения Ю. Соколову исключительной меры наказания (применена к осуждённому в 1984 году).
По «Рыбному делу» в 1982 году расстрелян замминистра торговли СССР В. Рытов по кличке Боцман [1]. На его показаниях возникло дело в отношении директора сочинского магазина фирмы «Океан» Пруидзе, раскрученное в «Краснодарское дело» уже после смерти Л. Брежнева. В 1983 году приведён в исполнение смертный приговор в отношении директора треста столовых и ресторанов г. Геленджик Краснодарского края Б. Бородкиной (Железная Белла — последняя из казнённых в СССР женщин). В 1985 году к смертной казни осуждён М. Амбарцумян (участник Парада Победы), который в системе Главмосплодоовощпрома заведовал овощной базой Дзержинского района г. Москвы (на проспекте Мира). На её месте сейчас корпуса METRO Cash&Carry.
Если дело гастронома «Елисеевский» и было «заказным», то лишь в той части, которая касалась элитных продуктовых заказов для партхозноменклатуры уровня горкома КПСС и выше.
Для борьбы с торговой мафией следственная часть Прокуратуры РСФСР создала следственную бригаду, работой которой руководил В. Олейник (впоследствии судья Конституционного суда РФ). В бригаду включили следователей, надёрганных со всей России. Состав группы постоянно менялся, в среднем в ней работали около 20 человек, распиханных по московским гостиницам и общежитиям, нередко ночевавших на рабочих местах в своих кабинетах.
Нечто подобное, в других, правда, масштабах, мы наблюдали несколько лет спустя на примере Т. Гдляна и Н. Иванова, боровшихся со взяточничеством в рядах пророссийски настроенной элиты Узбекистана.
И Олейник, и Гдлян квалифицировали действия обвиняемых как
Между тем, взятка — корыстное преступление, в предмет доказывания по которому входит обращение виновным полученных денег в свою пользу. Нет состава взятки, если полученные деньги используются на иные цели (на оплату вывоза мусора, на ремонт кровли торгового павильона и т.п.). Это преступление, но другой квалификации.
По формуле Олейника-Гдляна получатель взятки вначале обращал всю незаконно полученную сумму в свою пользу, после чего принимал решение часть этих денег пустить на самостоятельную взятку вышестоящему должностному лицу. Полная ерунда. Получая деньги, тот же В. Соколов прекрасно понимал, какая часть останется у него, а какая перекочует в карман руководству. Это осознавали и его подчинённые — взяткодатели.
Уже в момент выделения «Елисеевскому» дополнительной партии сигарет «Союз Аполлон» все участники цепочки по её реализации (от руководителя торга до продавца гастронома) понимали и общую сумму «навара», эквивалентную норме естественной убыли, и сколько денег из этой суммы достанется каждому из них. В этой задаче не было ни одного неизвестного. И так по каждой из 500.000 позиции, указанной в номенклатуре товаров гастронома.
К наличности, превышающей размер его личной доли, В. Соколов относился не как получатель взятки, на чём настаивало следствие, а как посредник. Посредник в передаче взятки (если действовал в интересах своих подчинённых) или посредник в её получении (если действовал в интересах своего руководства).
Однако В. Олейник считал, что одна и та же денежная пачка, перетянутая бандеролькой Госбанка СССР, вначале оказывалась предметом получения взятки В. Соколовым, а через два дня — предметом получения взятки руководством торга «Гастроном». Переубедить Владимира Ивановича мне не удалось.
Важным аспектом квалификации преступления является источник предмета взятки. Нет вопроса, если взяткодатель снял со сберкнижки и вручил вымогателю свои кровные. Однако в Москве и Узбекистане личными деньгами никто взяток не давал. Огромные суммы, фигурировавшие в качестве мзды, могли быть только похищены. Единственным собственником, у которого в те годы их можно было украсть в таком количестве, являлось государство победившего социализма.
На примере «Елисеевского» гастронома примерная схема преступного обогащения выглядела следующим образом. За счёт модернизации складских помещений и холодильных камер, а также продуманной системы логистики почти до нуля снизили естественную убыль, нормы которой были установлены бог знает когда и пересмотрены в середине 80-х, да и то по результатам расследования этого и других уголовных дел.
Например, приказом от 29.12.1984 года N 339 Минторг СССР утвердил нормы естественной убыли (допустимой величины безвозвратных потерь от недостачи и/или порчи) мяса и мясопродуктов. При перевозке вареных колбас на расстояния до 50 км стала применяться норма естественной убыли в размере 0,08 процента (к массе нетто товара). При перевозках сарделек и сосисок норма естественной убыли устанавливалась на 20 процентов выше норм для вареных колбас. До издания приказа эти нормы были заметно выше.
Как в каждом гастрономе, в «Елисеевском» на совершенно легальном основании работала секция, отпускавшая покупателям товар за наличный расчёт (соки в розлив, минеральную воду и т.п.). Отсутствие кассового аппарата давало возможность изымать из кассы нужные суммы и вносить таковые (при необходимости).
Одна часть сэкономленных на естественной убыли товаров реализовывалась покупателям в общей массе, после чего выручка, эквивалентная норме естественной убыли, изымалась. Другая часть сэкономленных товаров реализовывалась постоянным клиентам за наличный расчёт. Деньги не приходовались. Плюс массовый обман покупателей (обвешивание) при формировании продуктовых заказов. Полученный в результате обмана излишек также присваивался. Налицо хищение в чистом виде.
Показательным будет такой эпизод из жизни торговых работников. Уже в 90-х годах моя знакомая, лишившись работы на ЦНИИТМАШе, от безысходности пошла в ближайший гастроном, где, как ей сказали, была вакансия продавца. Директор почитал её анкету, повертел в руках трудовую книжку и отказал. На вопрос «почему» вышел из кабинета и пригласил соискательницу проследовать за ним. В коридоре они остановились у стоявшего на полу огромного рулона упаковочной бумаги.
— Всю эту бумагу надо продать по цене колбасы, — сказал он, — Вы не сможете этого сделать.
Ежемесячно получая деньги от начальников своих отделов, Ю. Соколов прекрасно понимал их проихождение, ориентировался в суммах, которые зависили от объёма товарооборота по той или иной номенклатуре, ибо сам был одним из создателей этой системы. Речь шла не о взятках, а о перераспределении украденного, которым он, в свою очередь, делился с руководством Главторга, выделявшим ему основные и дополнительные фонды. Заметители Н. Трегубова не взятки брали, а получали свою долю похищенного.
Доказывать хищение в разы сложнее. Одних товароведческих и бухгалтерских экспертиз штук 100 надо провести. С дополнительной квалификацией морока (обман покупателей, должностной подлог и т.п). Очными ставками не обойдёшься. Тут профессионализм нужен.
Хорошего следователя прокурор области никогда никому не отдаст, тем более на 6 -12 месяцев. Поэтому квалификация членов бригады была не идеальна. Через несколько лет все расследованные ими дела оказались в Мосгорсуде (квалифицированное взяточничество и хищение в особо крупных размерах — областная подсудность).
Понятно, что с олейниковскими делами мы намыкались. Ни в одном из них не было постановления о возбуждении уголовного дела, что влекло за собой моментальное и однозначное оправдание всех подсудимых. Произшло это потому, что эти дела не возбуждались, а выделялись одно из другого.
Вся первая партия дел была выделена из дела Ю. Соколова. Со временем из первой партии выделили вторую партию и так далее. Дело же Ю. Соколова имело гриф «секретно», поэтому приобщить к «своему» делу заверенную копию постановления о его возбуждении гособвинитель не мог. Приобщали соответствующие справки из следственной части Прокуратуры РСФСР, восполняли неполноту следствия иными законными способами, в общем, делали, что могли.
Подозреваю, что в деле Ю. Соколова постановление о его возбуждении также отсутствует. Чует моё сердце, что расследовалось оно комитетчиками в рамках уголовного дела о нарушении Машиным мужем правил о валютных операциях, из которого его выделили в самый последний момент уже перед направлением в суд. Иным способом КГБ не мог на законных основаниях оставить у себя в производстве дело о взятках, отнесённых к прокурорской подследственности. Как проверить? Н. Грашовень молчит. В. Олейник умер. Спросить не у кого.
В Московском городском суде по первой инстанции дела слушали 12-15 человек. Справится с накатившимся валом они были не в состоянии. Арестованные по этим и другим делам годами сидели под стражей, ожидая приговора. Надо сказать, что Следственное управление ГУВД Мосгорисполкома также обеспечивало широкий фронт работ, направляя в Мосгорсуд многоэпизодные дела о хищениях в особо крупных размерах. О следственной части Прокуратуры г. Москвы и говорить не приходится.
Председатель Мосгорсуда Л. Алмазов и его заместитель Л. Миронов сняли с кассации и перевели на первую инстанцию 12-15 членов суда, которые стали рассматривать дела в помещении районных судов (в здании Мосгорсуда на Каланчёвке условий для одновременного рассмотрения такого количества дел не было). Квалификация судей, переведённых на первую инстанцию, была неоднородна.
Не единожды Л. Миронов пытался наладить одновременное рассматрение 35 и более дел, но с доставкой такого количества подсудимых конвойный полк ни разу не справился.
Московские адвокаты оказлись не готовы по нескольку месяцев сидеть в одном деле с 10 и более подсудимыми. Многие защитники имели проблемы со здоровьем, были в возрасте и к интенсивной работе не привыкли. Это, а также потребность в других источниках заработка обусловливало их периодическое отсутствие на процессах в Мосгорсуде.
При замене адвоката слушание дела должно начинаться заново, поэтому, де-факто, основанием к замене могли служить либо госпитализация с тяжёлым диагнозом, либо смерть защитника. При отказе подсудимого от адвоката и заявлении о желании заключить соглашение с другим защитником суд нового адвоката допускал, а предыдущего от участия в деле не освобождал. Адвокатская тактика не срабатывала.
Государственное обвинение в Мосгорсуде обеспечивала прокуратура г. Москвы, в штате которой находись 8 гособвинителей. Даже участвуя одновременно в рассмотрении нескольких дел сразу, они не могли обеспечить 100% показатель поддержания государственного обвинения. Прокурор г. Москвы Г. Скаредов и его заместитель А. Агафонов привлекли к этому процессу сотрудников всех подразделений прокуратуры города и работников районных прокуратур. Каждый день по делам первой инстанции на 80-100 подсудимых в Мосгорсуде находились 10-15 государственных обвинителей различного уровня подготовки.
Государственное обвинение в отношении начальника торга «Гастроном» И. Коровкина (всего 17 человек) поддерживали прокурор уголовно-судебного отдела Прокуратуры г. Москвы А. Кузьмина [2] и ещё одна дама из Прокуратуры Архангельской области, специально вызванная Прокуратурой РСФСР ей в помощь ради этого дела.
Профессия государственного обвинителя имеет свою специфику. Заявляет, к примеру, прокурор ходатайство. Суд интересуется мнением подсудимых. По очереди со скамьи поднимаются 15 человек и каждый своими словами произносит спич, из которого следует, что прокурор редкая сволочь; матёрый нарушитель социалистической законности; мракобес и недоучка, имеющий наклонности к садомазохизму; по жизни — исчадие ада, исповедующее теорию А. Вышинского, а по факту — опричник, который спит и видит, как вернуть страну в 1937 год, и т.п.
Затем суд интересуется мнением защитников. Со своих мест по очереди встают 15 адвокатов и каждый вторит своему подзащитному (иначе нельзя), облекая своё мнение в юридически приемлемую форму. Чем хуже расследовано дело, чем беспомощней судья в процессе, тем чаще заявляет ходатайства прокурор. Иных это утомляет.
Истомившись в многомесяченой командировке, дама с ведома Прокуратуры РСФСР уехала к себе в Архангельск, не дожидаясь провозглашения приговора. Что касается А. Кузьминой, то, в связи с переходом на научную работу, прокурор города подписал приказ о её переводе в Институт повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры Союза ССР с открытой датой увольнения.
По соглашению сторон Анна Ильинична уволилась сразу после провозглашения обвинительного приговора, и на этом основании отчёт об участии в судебном разбирательстве уже не писала (чтобы составить отчёт, нужна копия приговора, на изготовление которой по таким делам уходит около месяца). Таким образом, своё мнение о законности приговора государственные обвинители в установленном порядке не выразили.
Своё мнение выразил недавно назначенный прокурором г. Москвы Л. Баранов, который с позицией А. Кузьминой все же поинтересовался, а поинтересовавшись, подписал кассационный протест, в котором поставил вопрос об отмене приговора в виду того, что он не подписан народными заседателями.
После М. Малькова, занимавшего свою должность 22 года [3], средний «срок жизни» прокурора города составлял около двух лет. Любопытную картину можно было наблюдать на одном из торжественных мероприятий, посвящённых какому-то прокурорскому юбилею — на сцене сидели председатель Мосгорсуда З. Корнева, один действующий и четыре бывших прокурора города, с которыми она работала.
Получив протест, председательствующий по делу — член Московского городского суда Л. Гусева через Ассоциацию юристов СССР попала на приём к Генеральному прокурору Союза ССР А. Сухареву, но понимания не встретила. Позиция прокурора г. Москвы была поддержана.
Дело с кассационными жалобами осуждённых и прокурорским протестом поступило в Верховный суд РСФСР. Дачу заключения поручили старшему прокурору-кассатору республиканской прокуратуры Г. Дубровинской, по докладу которой заместитель Прокурора РСФСР Н. Трубин протест отозвал. Приговор, подписанный несогласными с ним народными заседателями через месяц после того, как Л. Гусева провозгласила его в зале судебного заседания, вступил в законную силу, с чем Г. Дубровинская согласилась. В порядке надзора он не опротестовывался.
В нулевые годы я попытался напомнить Н. Трубину этот эпизод (в тот момент последний Генеральный прокурор Союза ССР работал в компании «Ингосстрах»), однако он его не вспомнил. Действительно, человеческая память — вещь несовершенная. Николай Семёнович, который в республике курировал уголовно-судебный надзор, отзывал каждый третий протест прокуратуры г. Москвы. Эффективность кассационного опротестования приговоров Мосгорсуда никогда не превышала 14%, за что Прокуратура РСФСР всегда подвергала нас справедливой критике.
Дело руководителей торга «Гастроном» И. Коровкина и других в установленном порядке сдано в государственный архив, где с ним может ознакомиться любой желающий.
С текстом протеста и некоторыми другими документами можно ознакомиться, воспользовавшись ссылкой https://books-all.ru/read/262694-prokurorskiy-protest-delo-glavtorga.html
Примечания:
[1] Дело «Океана» https://www.liveinternet.ru/community/lj_masterok/post491972386/
[2] В настоящее время Анна Ильинична Паничева https://www.youtube.com/watch?v=-ZqOcIXpCjY
[3] Рябов В.М. / Трудные версты московской прокуратуры. М.: Издательский дом «Городец», 2019. — С. 311
