«Левоплоссковские», «Правоплоссковские» Моше Шанина
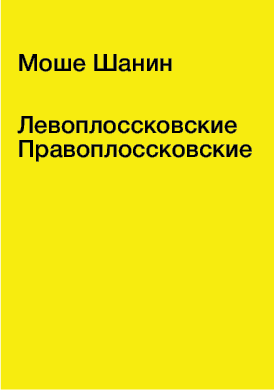
Молодой прозаик Моше Шанин около трех лет назад, на одной из церемоний премии «Дебют», говорил о том, что «нельзя писать так, как раньше». И сетовал на то, что писатели все равно продолжают именно этим и заниматься. Сам же Шанин, соответствуя своему «манифесту», действительно пользуется нарочито разными формами для отливки: (как бы) дневниковые записи, решение суда, маленькая пьеска, сказы и присказки, газетные вырезки. Из всех этих кусочков и состоят странные притчи о двух рядом лежащих деревнях, в которых живут не менее странные персонажи.
Хотя с точки зрения шаблонно мылящего обывателя, ничего странного-то в них как раз нет: ну, деревенские, да, с необычным говорком, растворенные в абсурде окружающей жизни, «злоупотребляют» и додумываются до
Зачем, скажем, вообще обращаться к жителям деревни? Например, чтобы показать, что деревня погибает. Или, наоборот, раскрыть перед нами чарующий, но закрытый мир аборигенов какого-либо региона. Или же — просто чтобы рассказать, как живут ничем не выдающиеся, но и не вымирающие люди в сегодняшней деревне. У Шанина же получается экспозиция чудных героев: как в музее, ты быстро проходишь мимо каждого, имея возможность прочесть лишь короткую аннотацию. Автор разглядывает своих персонажей как диковинки из неведомого леса, сам он — будто не из их компании, хотя они и были «подсмотрены» им с натуры. Он не готов уделить им больше времени и разобраться в них как в людях; рассматривает их со стороны, но заговорить с ними боится. В итоге получается, что «странными» эти герои являются именно для самого автора.
С другой стороны, уровень абсурда, мифологическая интонация не доведены здесь до той кондиции, чтобы воспринять этих персонажей просто как символы. Да, может не стоит вообще говорить о персонализации персонажей, они все — лишь массовка символической панорамы с большущим зеркалом, в котором отражаемся все мы? И деревня тут ни при чем. Живут эти существа в чудной шкатулке-государстве, и заглянуть туда страшно. Как только начинаешь смотреть под таким углом, герои сразу становятся слишком живыми, будто из реалистической прозы.
Эта «неопределенность» с тем, как воспринимать героев милой сказки, не дает им на нас подействовать в полную силу, что-то нам сказать. Слово дано только автору, и он с ним обходится очень интересно. Получается странный пример, когда категория «как», которая, на мой взгляд, главнее категории «о чем», как раз превысила свои полномочия,
