«Потерял слепой дуду» Александра Григоренко
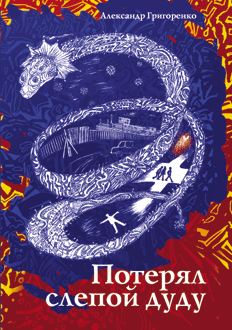
В короткой повести «Потерял слепой дуду» рассказывается о такой же короткой жизни Шурика Шпигулина, который родился в тишине (потому что глухой), и так же тихо, то бишь незаметно, умер (замерз на дороге). За свои тридцать с небольшим, или около того, Шурик, живущий в маленьком то ли городке, то ли поселке, успел жениться, завести дочь, устроиться на завод, развестись, потерять работу, познакомиться с плохими парнями, найти другую любимую, потерять паспорт… Словом, вполне содержательная жизнь, которая в итоге оказалась совершенно бессодержательной: человек много чего пережил, но это его никак не изменило; кажется, он и родился вообще, только чтобы всё это претерпеть.
Говорят, что Александр Григоренко, автор двух мифологических эпосов «Мэбэт» и «Ильгет», совершил впечатляющий разворот к сугубо реалистической прозе. Но это, конечно, не совсем так. В своей последней повести Григоренко вновь рассказывает если не миф, то притчу, и притчевый характер повести виден и по тексту, и по ее объему. Происходящих здесь событий хватит на полноценный роман, в который можно совершать длительные глубоководные погружения. Но автор этого не делает, позволяя себе лишь выборочные остановки на жизненном пути главного героя. То ли он понимает, что прочесть крупный нарратив о такой жизни непутевого было бы не просто изнурительно, а
Говоря о стопроцентно реальном, узнаваемом и довольно, кстати, заурядном персонаже (то, что он глухой, выделяет его слишком грубо; а то, что простофиля — вообще не выделяет), Григоренко не может обойтись без того, чтобы не превратить это в сказ, легенду или миф. И думается, всё это совсем не оттого, что он не может отвыкнуть от своей мифологической «дилогии» (за это время у автора были и другие публикации). Григоренко хочет, чтобы про его глухого какое-то время спустя тоже пели песенку, как про того слепого, что потерял дуду (эту песенку бабушка героя напевает внуку, а тот впитывает ее, даже не слухом, а скорее тактильно). Поэтому автор не рисует объемного человечка, а вырезает плоскую фигурку, поступки которой прямолинейны и простодушны; такие нужны нам не живыми, а оживленными — в куплетах и преданиях.
В самом деле, как уже было сказано, Шурик, или Александр Александрович, — пожалуй, единственный персонаж повести, который перед читателем вообще никак не разворачивается. Зато на его фоне разворачиваются остальные. Он одномерен и односложен, сцены с ним в главной роли предугадываемы. Зато другие персонажи иногда делают что-то такое, чего мы от них не ожидаем, показывая, что они, как любой нормальный человек, многогранны. Шурик как нечто неизменное, как небо, как колпак, покрывает других героев, копошащихся в бытовой сумятице.
В общем, Шурик, конечно, не просто человек — и
Это всё правда, но читать «Дуду» интереснее не затем, чтобы уловить авторский посыл (его уловить не сложно), а ради его деревенской действительности, в описании которой как раз нет никакого пафоса. Григоренко показывает трагичность одинокого человека, которого легко представить и в городских условиях, деревня здесь лишь место действия, реальные привычки и говор местных — обязательная часть антуража. Как кажется, у автора нет задачи драматизировать жизнь в деревне как таковую, кричать о том, что она погибает. И потому жители ее, хоть пьют и не работают, не выглядят разговаривающими мертвецами; они живые и объемные, и выступают не в качестве рассматриваемой в микроскоп блохи, а в роли настоящих художественных героев, способных менять ход сюжета, тащить одеяло на себя, обманывать наши ожидания. Вот это и есть настоящий реализм, который часто становится инструментом чуть ли не манифестов, когда речь идет о современной деревне или провинции. Здесь его тоже очень мало, но всё же есть, и как хорошо, что есть.
