Белый голубь
и Дух в виде голубине…
из тропаря
Она красивая —
её, наверно, воскресят.
Маяковский

Вышел из лесу в меру упитанный седой человек. Продвинулся он вдоль тропинки, из «Голубя» Белого, по касательной — будто бы мимо всех этих хлыстовских посадов и чёрных дерёвен — мимо, но чаще и — сквозь. В общем, грассируя, продвигаясь тягуче сквозь текст, с прононсом, на девичью ступню и — бестиарно — под юбку — влезал. Забрался и вышел — вдруг. Родился, значит. Сначала — ребёнком, а там — глядь! — и до государева мужа разошёлся, нашенский человек, из пермяков будет. Таков был, вкратце, предмет последнего предрассветного сна Бориса Львовича, который с час как проснулся и, покуда мы начинали, успел и туалетные дела обделать, и яичницей с беконом закусить, и напиться горячего кофiю, притом — с папироской.
Было утро понедельника. Борис Львович вяло собирался на лекцию. Он служил преподавателем истории философии в одном из старейших российских ВУЗов, вот уже более пятнадцати лет занимаясь проблемами феноменологии у
Борис Львович, минув поросший орешником двор, вышел на каменную мостовую. И пешим — до корпуса — степенным пустился прогулочным шагом — от самого дома его, почитай, минут двадцать — есть время скурить папироску. На пути бесстыдно раскинулось студенческое общежитие. Борис Львовича всегда поджидали ретивые студенты, норовито хватавшие лектора за лацкан габардинового пальто, приобретенного года два назад на стажировке в Руане:
— Борис Львович, когда же наступит Великий Полдень? -причитали они.
— Лучше великий полдник — отшучивался он.
Особенно неприятно было ему, когда студент выливал на него ушат своих интеллектуальных помоев, «задрочеств», как шутили они на кафедре истории философии с Ефимом Петровичем, ошивавшимся там же. Вот и сегодня, не успел Борис Львович миновать главный корпус «общаги», как его подхватил и понёс, щупая — снова вспомнил он любимца Бугаева! — на ходу, сановитый студент третьего курса богословского факультета — Сергей Сергеевич Аверьянов, метивший как в магистратуру, так и на стажировку — в дружественный Тегеран.
— Здравствуйте, дорогой наш Борис Львович! Я сегодня не спал всю ночь и всё только и думал, и думал об Вас и об этом… о прошлом… и об лекции крайней, как вы помните… она, как Вы помните, про Канта была…
— Помню, помню экскаваторный завод!
— Простите, причём же здесь завод?
— Знаете ли, Сергей — уклончиво начал Борис — я в детстве имел сношения с Марадоной…
— Это всё пустое — прервал его наглый студент — я вот об чём думаю: позади нас — он походя сделал пристойное сальто-мортале — чёрный, и дикий, и отвратительный мир хороводов, камланий, инцеста; впереди — не менее отвратительный мир киборгов, чекинов и пинов… History is a Circle! Искусство же возможно только там, где есть «Я», отдельное автономное «Я». Искусство — это, знаете ли, тема исключительной важности! Хайдеггер не прав, прекраснодушный немец! Да, «боги уходят», а он, наивный, уже чает их возвращения! А возвращения никакого не будет… Возможно, что никогда… Вернее, будет, да придут такие «боги», что лучше б не приходили…
— Прошу меня простить, — начал Борис Львович, вкладывая всю доступную ему ироничную — застойную, впрочем — желчь в свой простуженный прокуренный голос — мой милый друг, но мы уже достигли храма знаний и вынужден я, вынужден я — ой как вынужден, прямо до слез! — оставить Вас одного докуривать при входе, да-да, при входе, ибо меня ждут на лекции студиозы…
— Adios! — осклабился троцкист Сергей, сплевывая насвай и затягиваясь самокруткой.
Облегчённо вздохнув, Борис Львович проследовал в свой кабинет.
В кабинете было накурено. Ефим Петрович давно похерил и указы администрации, и здравый смысл. Он перетащил в кабинет старинную чугунную ванну из закрытого на ремонт старого корпуса и, наполняя её горячей водой из столовой по шлангу через окно, возлежал в ней в чём мать родила, почёсывая, между лекциями, то Генона, то Канта.
— А, Львович, дарова!
— Дарова, карова!
— Мне тут, Львович, записку подбросили ребзя. Зачту? Угорим!
— Ну, жги, чувак! — Борис Львович скинул исподнее и, зачерпнув себе из медной посудины добрую порцию разбавленного родниковой водою вина, присовокупился к другу — вполне по-гречески! — в пенную жижь.
Петрович начал:
— Ещё Брайан Ино учил, вослед Бодрийяру: главное — это соблазн. Искусство, политика, вся ваша культура — всё, в конечном счете, сильно лишь тем, что соблазняет нас. Запад соблазнил человечество «будущим»: мы будем бессмертны (по крайней мере, жить по 1000 лет, аки библейские патриархи), работать за нас будут роботы, мы будем колонизировать другие планеты, мы разгадаем, наконец, все тайны бытия. Это — Великая позитивистская Американская Мечта, притом докантианская даже доктрина, основанная на идеях Французского Просвещения, на картезианской концепции Бога-часовщика…
— Кончай, Петрович — Боря харкнул в медный таз, тот отозвался характерным звоном — это просто мутная хрень! Пошел я, короче, на пару…
— Валяй, док.
Покуда Борис Львович вязал себе галстук, Ефим Петрович продолжил, однако ж, читать:
— Американские учёные заявляют: уже через двести лет возможность полностью оцифровать человека сделается реальной. То есть перевести в цифровой вид всю информацию, все воспоминания, все данные ДНК, а затем — слить в киборга. Всё это, и сверх того, будет обыденностью. Вот и станет вечный Джон или Вася. И не нужно будет ему писать граффити «я был здесь», ибо он и будет здесь, и будет всегда. А что же будет делать этот вечный Вася в мире без искусства? А ничего. Он просто «being there» (перевод на английский хайдеггеровского Dasein). Он просто будет здесь…
Борис Львович злобно захлопнул за собою дверь. Ефим Петрович рассмеялся, закурил и, пуская пузыри, стал напевать что-то из поздних Beatles.
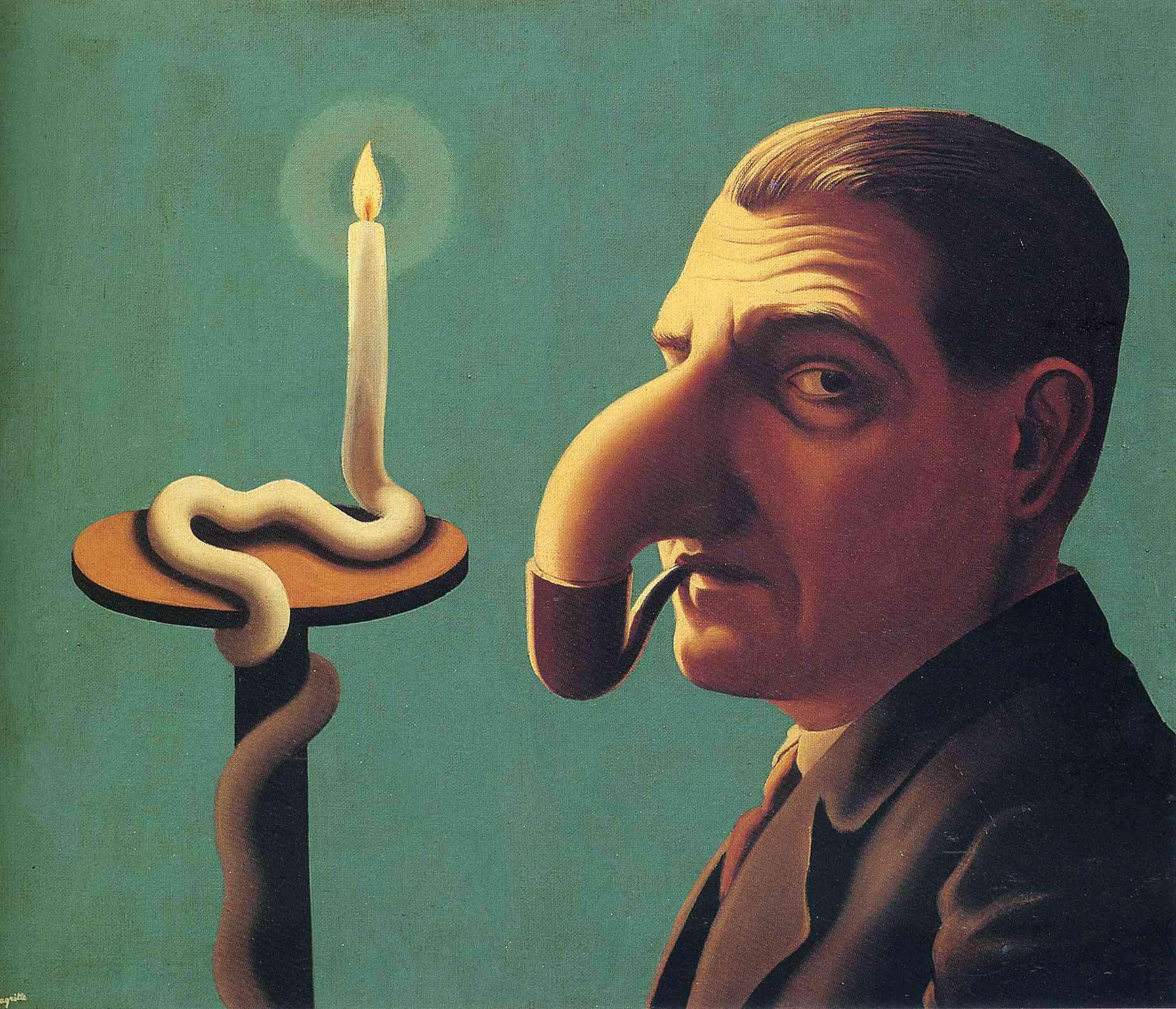
В лектории было накурено. Студенты похерили указы администрации, как и все прочие указы, веками херили в этой стране и вокруг. Борис Львович расселся за монументальной кафедрой, скрывавшей его чуть менее, чем целиком, раскрыл «Феноменологию духа», надолго присосался к серебряной фляге.
Неужели запью? — флегматично подумал он. Дали звонок. Гул затих. Борис Львович восстал аки библейский судiя, навис виноградно над кафедрой, распростерся, вперившись в стену напротив, по-троцки. Вышел на подмостки, значит. Прочистив горло, он с просчитанной досадою произнёс:
— Дорогие друзья студиозы и прочие, и прочие! Вы, наверное, помните, что в прошлый раз мы, наконец-то, разделались с Кантом. Блестящий доклад «Эманации чань-буддизма на футбольном поле кантовских антиномий», между прочим, прочёл подающий большие надежды индолог Шварцман. Но вот, пришёл черёд Гегеля. А Гегеля я терпеть не могу. И вот что решил. Старика вы разберёте на семинарах с Ефим Петровичем, — тут лицо Борис Львовича треснуло в плохо скрываемой похабной ухмылке — он у нас большооой по Гегелю специалист и прочее, и прочее. А мы с вами сегодня устроим свободный урок, разумеется, с оглядкой на пройденный материал, этакий философический междусобойчик.
Аудитория пришла в неописуемый восторг! Индолог Шварцман перестал щупать мягкое место соседки под партой, вскочил на неё верхом и закричал:
— Viva la Revolusion!
Тут в дверь постучали.
— Кого это к нам занесло? — осклабился Борис Львович и, распахнувши дверь, громко вскричал: FIAT LUX!
На пороге стоял дворник Матинов.
— Мне бы тряпочку, Борис Львович… вы меня, пожалуйста, извините, но я её, родимую, кажется, позабыл в этой аудитории…
— Прошу!
Когда всё было кончено, и дверь за дворником захлопнулась неумолимо, Борис Львович снова прибегнул к латыни:
— Sic transit gloria mundi! — с досадой отметил он — а ведь подавал в некотором роде надежды.
Студенты заржали. Борис Львович присвистнул:
— Однако, вернёмся к нашим… хм… баранам. Как вам должно быть известно, я в человека не верю. Какого чёрта человек решил, что он — венец? Лучший? Избранный? Единственное, что у него есть это — власть, что прекрасно вскрыл ещё Мишель Фуко в «Надзирать и наказывать». Даже уникальность языка — спорный вопрос, а власть, это — да. Но власть часто достается посредственностям и идиотам. Мы на этой земле экзистенциальные оккупанты, причём, скверные, неряшливые. И я не про экологию вообще, а про эстетику, про аутентичность, про мужество, наконец! Вы знаете, я вовсе не сторонник «естественности» и «слияния с природой», руссоистский пафос мне чужд. Просто у нас кишка тонка. Изучаешь животных, их кодекс поведения, например, их ритуалы, и поражаешься насколько мы беднее и хуже, положим, акулы… её плавники… Впрочем, не суть. Убежден: человек хорош только тогда, когда он наблюдает и называет. Поэтому, письмо, конечно, наименее гнусное человеческое занятие на этой планете. Собственно, я и занимаюсь письмом, прежде всего потому, что делать слишком человеческие дела мне совесть не позволяет. Но в целом, я верю, что человек своё дело докончит, уработает тут все, подчинит, если не вмешается катастрофическая случайность. Я, кстати, всегда был интуитивно, с детства, сторонником минимального воздействия на сущее. Даже наблюдать — украдкой, как бы вскользь. И ни в коем случае не вмешиваться. Последнее время я всё больше склоняюсь к тому, что и писать излишне и прочее, и прочее…
— Значит, Вы нас покидаете, профессор? — не унимался лупоглазый индолог Шварцман.
Но Борис Львович оставил его вопрос без внимания. Его, как говориться, несло. Алкоголь отпускал, но принятые за завтраком вещества только вступали в силу. Он воздел перст, оснащённый рубиновым перстнем, продолжив:
— Готовясь к уроку, ребята, я стал перечитывать собственные работы по неотомизму, по неокантианству, а так же, углубился, походя, в начатый уже довольно давно, новый и правильный перевод «Капитализма и шизофрении» Делёза. Вы знаете уже из моих лекций, я искренне убеждён, что фундаментальное значение делёзовской философии ещё только предстоит открыть, и я надеюсь, а проще говоря, чаю сверх всякого ожидания, что вы, мои верные падаваны, окажете мне содействие в непростом и героическом деле. Вы знаете, что такое есть зарплата преподавателя. Мой Яндекс-кошелек: 4100 1417 6862 642. И вот, Бог нас создал, вот мы выросли, и он удалился, оставил нас наедине с мирозданием. Не умер, подчеркиваю, — немецкий пессимизм вообще не причём — но просто удалился. И вот есть Великий Проект: самим становиться богами! Но всё это стоит недёшево. Философы недоедают, философам порой негде жить, философы это очень, очень бедные люди, ребята, друзья и товарищи…
Он осёкся. Сел. Посмотрел на часы. Ремешок крокодиловой кожи сильно сдавливал руку. Он снял часы, положил их в нагрудный карман. До конца пары оставалось ещё более получаса.
А
Он встал. Продолжая внутренний диалог, щупал взглядом аудиторию в поисках смазливой студентки.
— Ты! Да, ты! Как тебя там… Гладкова? Гудкова?
— Ипатьева вообще-то! — вспыхнула скуластая блондинка с выдающейся грудью.
— Ипатьева… После лекции — в мой кабинет! В мире будущего, как я уже говорил, искусства не будет. Там будет колонизация Марса, будут органы из пластмассы, а потом и тела, вот такие дела, уж какая тут «музыка», какая «йога»? Подключился, обновился — и — порядок. Можешь чеканиться ещё 3000 лет. Кали-юга, если использовать нелюбимую мной, но доходчивую индуистскую терминологию, только ещё занялась. Впереди 500 миллионов лет. Но я не верю индуистам и склонен думать, что она — Кали-юга — навечно. Ничто не вернётся. Никогда. Да и некуда возвращаться. Все самое дорогое, все самое ценное в нас — мимолётно. Как, например, наше «Я».
— Борис Львович, а что же Кант?
— А что Кант? Вы, конечно, знаете, маленькие проказники, что значит cunt по-английски?
Студенты заржали. Дали вдруг раньше звонок. Борис Львович грудой осел на поверхность стола, распространился по аудитории, выплеснулся сквозь окна, прямо в картину, туда, где лес, и мужик, и белый бугай с топором.

В кабинете накурено не было.
— Фима! Ты здесь? — Борис Львович нащупывал друга, дабы освободить кабинет для предстоящих утех со студенткой Ипатьевой.
Ефим Петрович не отвечал. Было отчего-то тихо, тревожно. И только капало что-то над ухом: кап, кап, кап. Продравшись сквозь анфиладу книжных шкафов, уходящую ввысь, к небесам, Борис Львович неожиданно оказался в
Времени не оставалось. Борис Львович облапил одежду друга, извлек всё компрометирующее, смыл в унитаз, предупредительно имевшийся в их кабинете, кое-что постирал в телефоне друга, кое-что в телефоне своём, после чего, сделав несколько существенных глотков бурбона, решительным шагом направился в деканат.
Декан философического факультета Виктор Арсеньевич Дымов был расположен к Борису Львовичу, а потому выпроводив за дверь ошалелую студентку Ипатьеву, спросил профессора прямо, говоря по-русски, в лоб:
— Вы, стало быть, и
— Не я убивал, ей-Богу, не я, и баста! — парировал профессор, протирая очки в роговой оправе сиреневым платочком, подарком усопшего.
— Борис! Прошу Вас, доверяйте мне!
— А я и доверяю, Виктор Арсеньевич, я искренне не убивал…
— Хм… что ж… тогда идите домой.
— Ну как же? А полиция? Я ведь первым обнаружил тело… Вы не пускаете меня в детектив?
— Пойдите, батенька, к себе домой, откушайте чая со сливками, пирожок жёнкин с гусем — улыбался Арсенич — сосните часок-другой, примите ванну с морскою солью, а я уже как-нибудь сам…
— Но…
— Я устал, Борис Львович, я ничегошеньки не могу. А у Вас жена Татьянка, пирожки с гусем, и Вы не идёте? Это и бессовестно, и не расчетливо. А у нас тут одна суетня, зряшняя суетня. Идите, идите домой, не упрямьтесь, прошу Вас!
— Благодарю Вас, начальник!
Борис Львович не стал навязывать себя декану, а напялил пальто и, вкрутив в угол рта самокрутку, вывалился на двор. Сыпал снег. Белые мухи попадали Борису в глаза, залепляли их. Талый снег, словно мёд, стекал по усам. Борис шёл и плакал. Шёл и плакал Борис Львович, ибо сильно он усопшего любил, а убил — не он. Было чувство, что кто-то вмешался, облапил, задел существенное, важнейшее, может быть.
Дома оказалось тоскливо, пусто. Жена куда-то ушла, не ожидая мужа в столь ранний час. Может, она и убила — отчего-то подумал Борис Львович, забираясь в ванну, окруженную свечками и курильницами. Затянувшись поглубже, профессор отчего-то запел:
Вот снова белый голубь, сидя
На ветке, заглянул в окно,
Как будто будущность предвидя,
Он — белый, за окном — черно,
Как на картинах Караваджо…
Скажи, откуда эта жажда?
Откуда голод этот в нас?
Смотрю, как голубь, на сограждан,
Смотрю, как дешевеет газ,
И дорожают хлеб и мыло,
Сравнив, что есть и то, что было,
Я понимаю вдруг одно:
Весь мир есть голубь и окно.
Как беднеет язык, — думал он, погрузившись в воду — как год от года мы становимся ближе… К чему? Вот и Рене Жирар, например… Священное… Сдалось нам это «священное»? Объятия, ритуалы… мыло… Как очевидно лицемерие человечьей породы… Как гадко! Как омерзительно вот это вот всё… Замещение… Лицемерие… Этот вот буржуазный похабный фрейдизм… Вот Ипатьева эта, положим… Котирует Ницше, Хайдеггера, Гессе, Юнга… Бродского… О, да! О, этот Бродский… Сколько минетов было инспирировано его именем… Они прикрывают блядство интеллектуализм! Я повидал, повидал… Бедный Фима, он не был таков… И вот… его нет… Слишком хорош, чтобы жить… Павлины распускают свой хвост, с тем чтоб охватить себе самку послаще, насадить на свой штырь…
Любовь, любовь! — поёт поэт,
Руками рвя её покровы,
Входя в багровые альковы
Под страстных стонов минуэт
Поэт, поэт! — кричит любовь,
Хватая страстно что попало
Ей в руки с криком: мало, мало!
Ещё мне чашу приготовь!
Звезда в окошко смотрит с неба
На их мистерии любви,
А некто просит: хлеба, хлеба!
Ему звезда в ответ: люби!
И Диониса, или Феба
Своей любовью оживи!
Милая девочка, катящая шарик. Ты только дьявол, единственный дьявол из всех, что я знал… О, Солнце! Вот и Солнце встаёт за домами! Но как это? Оно встаёт, а я — не вижу. А эти… видят? Нет, они мимо едут, им-то на Солнце плевать…
Борис Львович пришёл в себя. Было снежное морозное утро. На
Борис Львович, минув заросший орешником двор, вышел на каменную мостовую. До корпуса — пеший, сонливый пошел — притом, степенным прогулочным шагом, от самого дома его до учёбы, наверное, было шагов восемьсот. На пути похабно расселось студенческое общежитие. Борис Львовича всегда поджидали ретивые студенты, норовито хватавшие лектора за лацкан габардинового пальто, приобретенного года два назад в любимом Руане:
— Борис Львович, когда же наступит Великий Полдень? — гундосили пьяно они.
— Лучше великий полдник — злобно отшучивался он.

