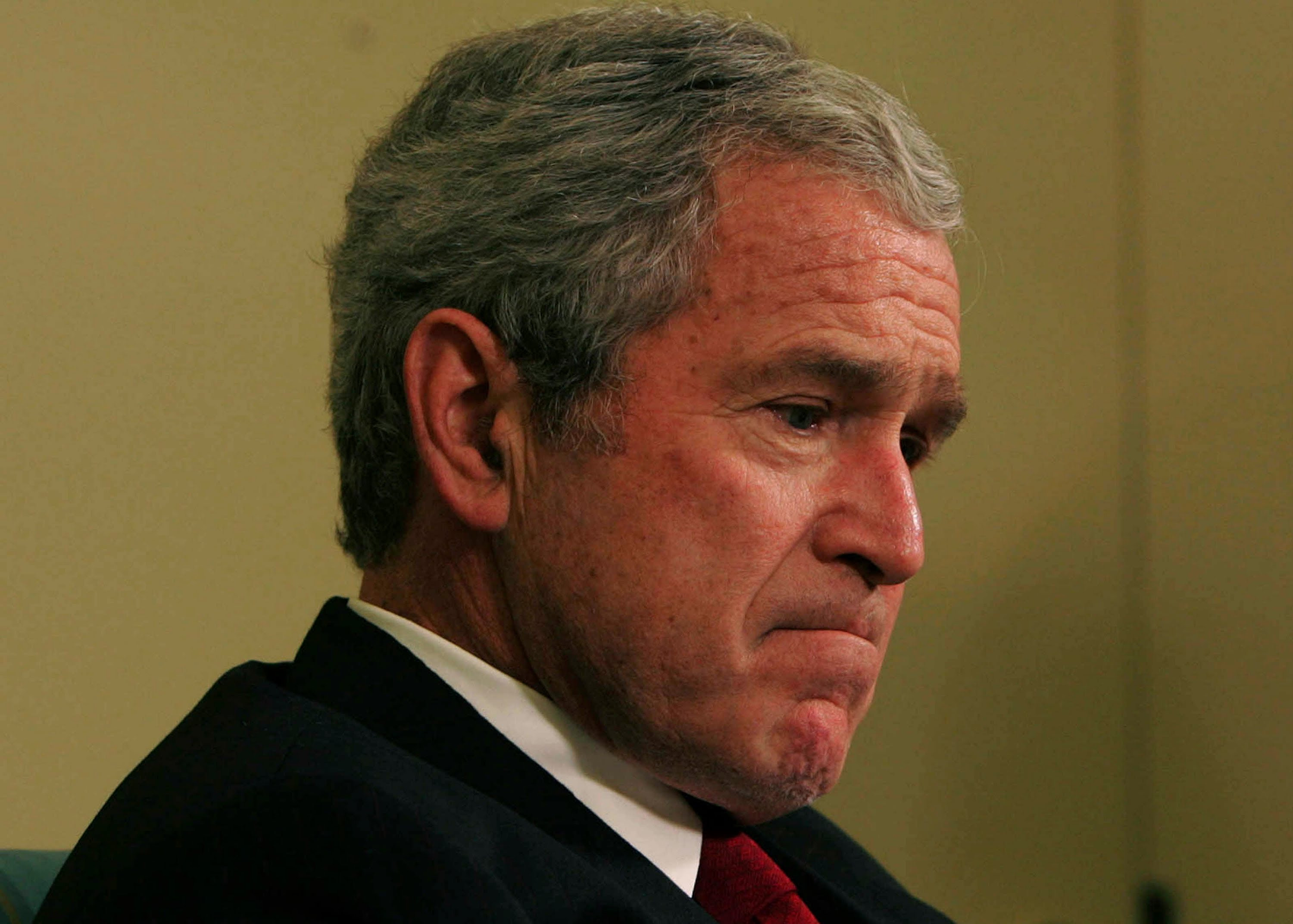Из бесед с профессором
Карточка 1001
В.: Расскажите про Ваши стихотворения. Меня, например, давно занимает то, где про Wish You Were Here с утра в ушах. Герой идёт по осенеему городу, слушает альбом Pink Floyd, думаю, у многих был такой опыт.
О.: И это прекрасно. Но именно поэтому я не люблю говорить о стихах. С Wish You Were Here вообще сложно, но я попробую восстановить полет мысли. Когда мне было тринадцать-четырнадцать, я буквально болел Pink Floyd, очень много их слушал, но на пластинках. Дома был старенький родительский проигрыватель radiotehnika, а я купил на распродаже сильно б/у несколько пластинок Pink Floyd. Хотя, справедливости ради, были у меня все студийные альбомы и на кассетах, но магнитофон был маленький, маломощный, а проигрыватель вполне хорошо звучал, особенно в здоровых советских стереотелефонах, чудовищно неудобных, но, в общем, детальных. Да это и в целом как-то здорово было, прийти со школы, сесть в кресло, поставить пластинку, уйти в этот шуршащий звук. Особенно осенью. А плеера не было. На пластинках были первые два альбома, Wish You Were Here, The Wall, The Final Cut и, разумеется, Delicate Sound of Thunder фирмы «Мелодия». И так я с этой музыкой сроднился, что раз обнаружил себя без часов (а телефонов тогда, разумеется, никаких не было) на пустой спортивной площадке, исполняющим Wish You Were Here. Была как раз осень, конец сентября, может, октябрь. Сухо, но смурно. Я был в старом синем плаще поверх формы, а класс ушел бегать. В общем, была физкультура, а я был освобождён. Вокруг была настоящая осень, старые дома красного кирпича эпохи модерна, ржавый остов какой-то машины. Хорошо запомнились яблоки, полусгнившие уже, на земле. Впрочем, возможно, это наложение из другого воспоминания. А вот листья помню в кучах, их сметали в кучи, потом жгли, шел специфический запах. Ветер, помню, был сильный, холодный. Я потом, после этого, опять заболел, может быть, и мама меня дома укутала в
В.: Чем и кончается стихотворение.
О.: Да, да. И вот я решил проиграть в голове целиком какой-нибудь из альбомов Pink Floyd. Захотелось Wish You Were Here. Он сам как-то к окружающему подошёл. И пока ребята бегали, я его проиграл, и даже тихонько пропел, и очень радовался что ветер так удачно завывает, точно как на пластинке. Где-то я, может быть, ритм отстукивал палочкой о ржавый остов машины, впрочем, незаметно все это делал, стеснялся, больше все было в уме.
В.: Удивительно. Из этих воспоминаний все и родилось.
О.: Нет. Это лишь фрагмент, касаемый Wish You Were Here. Вернее, склейка, которая обеспечивает связь именно этого альбома с осенним пейзажем. Ведь не случайно же там именно этот альбом, он для меня абсолютно осенний. По забавному совпадению, он был выпущен в сентябре. Так и все, и в этом, и в каждом стихотворении. Если Музиль, значит, Музиль. Если Нольде, значит, должен быть Нольде. Я лучше пойду на
В.: Это неожиданно, потому что часто, читая Вас, создаётся ощущение, что во всем этом присутствует какая-то игра, своего рода постмодернистский пастиш.
О.: Я бы сказал, это игра в постмодернистский пастиш, своеобразная мимикрия под стилистику моей юности. На деле же все там всерьез и честно. Однако, давайте я вам ещё про осень дорасскажу. Если вы читали текст «Детство», да и некоторые другие миниатюры, скажем, про снег, вы знаете про частный сектор. Память хранит все прогулки по частному сектору с близкими мне людьми. Особенно, конечно, осенние. Но не только. С отцом вот я там в основном зимой гулял. А с другими важными мне гулял на закате лета и ранней осенью. Потому что там очень душисто бывало в это время. Целое пиршество запахов. И костры. Причем, не лиственные, а настоящие. И запахи слегка перезрелого сада, потому что не все, знаете ли, яблоки, сливы собирают, и бабушки есть, что живут одни в старом доме, там сад, и все падает, пахнет, чистейшей воды fin de siecle. Тут пристальный взгляд обнаружит и Коро, и Нольде. Их палитру. Да, а позже там выстроили многоэтажки, которые образуют стакан, в который порой попадает луна. Забавный эффект на закате. Именно туда, в этот частный сектор, мы ходили играть в бадминтон летом, а осенью ракетки отправлялись на бабушкин шкап. Бабушка моя, ровесница двадцатого века, так говорила, в ее молодости так было принято говорить. Но, как вы понимаете, в это можно бесконечно погружаться, укрупнять какие-то отдельные слова и вещи, распутывать клубки Ариадны. И так, в
В.: Спасибо Вам большое за беседу.
Карточка 1002
В.: В прошлый раз мы говорили о презентации в музыке, в частности, о тоталитарной природе концерта. Не могу не спросить Вас о живописи, ведь ставшие уже классическими формы ее презентации в пространстве музея не менее тоталитарны, не так ли?
О.: Разумеется. Надо сказать, что я никогда не был завсегдатаем музеев, видел не так уж много шедевров, однако, те формы презентации, которые я наблюдал, оставили самое удручающее впечатление. И это вовсе не значит, что мы должны требовать, в стиле 68-го, закрыть музей, как раз наоборот, ведь весь механизм презентации живописи, налаженный в современном мире, начиная от искусствоведческих кафедр и заканчивая аукционами, столь архаичен (и анахроничен), что грех не выставить его на показ, как некоего динозавра, опасного некогда ящера. Сегодня мы наблюдаем феномен, когда музеи и выставки выставляют сами себя, картины не так уж важны.
В.: Однако, по возможности, вернёмся к самой живописи, к картине.
О.: Повторюсь, я не так уж много их видел. Например, Климт. В юности, в репродукциях, он вовсе не впечатлял. Но чуть позже я понял (ещё не наблюдая его работ), что его картины раскрываются лишь в реальном масштабе, более того, в соответствующем антураже, контексте. Как дорогой голливудский блокбастер создан для кинотеатра, так и работы Климта буквально созданы для музея. С другой стороны (эту мысль я нашел у Джона Кейджа, найдя в нем своего рода союзника), настоящее искусство, как мне кажется, не нуждается в
Карточка 1022
В.: Давайте вернёмся к разговору о репрезентации искусства, в частности, музыки. Мы говорили о поиске новых троп.
О.: Да. Разговор зашёл о
Кстати, самому феномену концерта чуть более двух сотен лет. Почему вообще появилось это все? Очевидно, как замена литургической практике. Народные массы, вернее, широкий к тому времени в Европе городской класс, под воздействием научного знания все меньше выбирали церковь, и властью был сконструирован целый ряд эрзацов в виде «храмов искусства», «храмов знаний» и проч.
До этого периода истории люди сидели в опере, как сидят в современном баре, а фоном кто-то играл и пел (не особо навязчиво). Разумеется, музыка была и функциональная: для торжеств, свадеб, похорон. Чтобы заставить человека целево прийти слушать музыку, нужно было подготовить убийство Бога, что, разумеется, и сотворил романтизм , с его культом квази-творца.
В.: Вы лично не посещаете концерты?
О.: Нет, хотя, разумеется, я посещал их, в молодости, из любопытства. Однако, безо всякого удовольствия. Лишь дважды я был впечатлён. Один раз, когда мы с коллегой сидели в кофейне, пили чай, обсуждая философскую проблематику. Неожиданно перед нами (кофейня была полупустой) поставили стулья и объявили, что в зале два музыканта, гостя, которые решили дать импровизационный концерт. Вышли двое довольно обычных молодых мужчин с гитарами и в течении примерно двадцати минут играли фламенко. Все вышло случайно, я не знал их имён, не было ровно никакого пафоса, мы продолжали пить наш чай. И второй случай. Другой коллега пригласил меня на репетицию (мне вообще больше нравятся репетиции, чем концерты) начинающего струнного квартета. Там было буквально несколько человек, слушателей, все сидели рядом, вокруг. Девушки исполняли, кажется, Брамса, но это совершенно неважно. Мне очень понравилась одна скрипачка. Она была невероятно хороша собой, и
В.: Выходит, все дело в той самой романтической сцене, в создании искусственной дистанции в рамках музыкального мейнстрима?
О.: Определено. Кстати, не знаю, как в популярной музыке, но в академической, кажется, давно ведутся поиски новых форм презентации без сцены. Ещё Ксенакис рассаживал музыкантов среди зрителей. Кейдж много работал в этом направлении. Хотя, последнее время мы видим откат к жёсткой иерархии. Это связано с насаждаемой властью модой на правый дискурс. Опять, как перед войной, дают Вагнера, Бетховена. Очевидно, играя на тоске человека по Богу. Все тот же эрзац литургических практик, хотя, в
Карточка 1144
В.: Какая Ваша любимая песня? Понятно, что это нехороший вопрос, их может и должно быть много, а ведь есть ещё композиции, альбомы, вещицы (то, что по-английски мы называем works). И всё же.
О.: Вот уже довольно давно на этот вопрос я отвечаю однозначно: моей любимой песней является Heaven с альбома группы Talking Heads «Fear of Music». Этот «эмоциональный поп в стиле Беккета», как точно выразился один критик, берет за живое снова и снова, как говорится, «цепляет». Ей есть чем вас зацепить, этой песне. Там множество шестеренок разного размера и формы, как, впрочем, и всегда почти у Talking Heads и у сольного Бирна. Но тут, конечно, они попали в десятку. Такие попадания в творчестве вообще довольно редки. Иной художник, даже успешный, может всю жизнь крутить вокруг да около, но в десятку не попадет. «Страх музыки» вообще очень сильный альбом, я его всем рекомендую, потому что он обыкновенно остается немного в тени шедевра «Remain in Light». Но 1979 год был невероятно силен в музыке. И на «Fear of Music» мы, с одной стороны, слышим во всем великолепии 70-е с ритмами краут-рока и регги, с интонационными отсылками к Боуи, Игги и героям панка, с другой стороны, там уже мост в 80-е и даже в 90-е годы, потому что, например, песенка Air это уже чистый Radiohead. Что же до, собственно, Heaven, то в ней, как в призме, сошелся целый пучок лучей. Тут и довольно прозрачные намеки на великую американскую традицию духовной песни (gospel), и диалог с культовой песенкой Дэвида Линча In Heaven из свежего тогда шедевра «Головоластик», и, да, продолжение традиции Беккета, а еще, конечно, «Хрустальный мир» и Уильям Берроуз. В общем, если хотите, «Fear of Music» (как и в целом, творчество Talking Heads) — это энциклопедический словарь культуры XX века. Я сейчас вообще громкую вещь скажу, но мне правда кажется, что здесь мы видим лучшую продюсерскую работу Брайана Ино. Недаром он так работать с Бирном любил, их «My Life in the Bush of Ghosts» тоже очень хорош. Был ещё, конечно, Дэвид Боуи, «Lodger» которого, впрочем, пересекается с «More Songs About Buildings and Food» скорее, чем с «Fear of Music». Так вот, о звучании Heaven. Это, конечно, магия. Чистая магия. Оставшаяся незамеченной Yesterday эпохи пост-панка. Песня аутентична, звучание идеально дополняет текст. Голос утоплен, слегка плывет, в то же самое время, он застывает на месте, скованный, будто в кристалле, ритмом в стиле группы NEU!, он качается в этом клаустрофобном пространстве, тыкается в эту решетку. Так действительно могли бы петь в
Карточка 1240
В.: Вы всерьез упомянули героев кино-комиксов, представителей поп-фашизма.
О.: Да, именно их. Наиболее очевидным было бы представить их аналогами древних богов и героев. Мы наблюдаем снова и снова (как и в случае с
В.: Вы считаете, создание супергероев — это закономерный процесс?
О.: Разумеется. В 90-х в блокбастерах мир спасали таксисты, посудомойки, плохие полицейские, буквально — бездомные. То есть, все по завету Христа: последние станут первыми. А теперь у нас профессиональные спасители мира: боги (буквально), главы транснациональных корпораций, агенты спецслужб, мировые учёные. Вертикаль власти за полшага до фашизма и тоталитаризма. По меньшей мере, оправдание того, что сверхчеловек во имя высших целей (довольно смутных, честно говоря), может разгромить полгорода, порушить дома простых людей (статистов), которые должны быть при этом в восторге: мама, мама, наш дом разрушил сам железный человек! Для меня очевидно, что Мстители столь же плохи, как и их враги.
Они защищают свой порядок, свой вариант тоталитаризма (общество потребления, откровенно говоря, будущее в цифровом концлагере), не вызывающий никаких симпатий. Приемы в ссупергеройском кино взяты из тоталитарных агиток 30-х, когда добрый фюрер даёт незнакомому малышу конфетку (другой рукой подписывая за кадром приказы о расстрелах). Ровно так же действует Тор.
В.: Мы наблюдаем эскалацию мифологических сюжетов про богов и героев в основном в американских лентах.
О.: Не стоит идеализировать Европу. Америка может себе позволить такие сюжеты. Элиты США считают себя прямыми наследниками Древнего Рима. Использование римских стратегий управления массами вполне естественно. Но важно понимать, что «Мстители»- это они о себе. Скажем, Тор олицетворяет собой старую аристократию, Железный Человек — глав корпораций, Халк — учёных из Долины, Сокол — спецслужбы и т.п.
В.: Но разве Тор не простодушный увалень, легко поддающийся влиянию?
О.: Ну, это и есть классический образ аристократа. Вспомним Пьера Безухова, например. При этом, не стоит обольщаться на счёт Тора, молот могущества все ещё у него в руках. Мифология Асгарда в целом довольно занятна: Хопкинс и Том Хиддлстон, играющие древних богов, английские аристократы. Они, видимо, представляют собой символ старой, европейской элиты. Тор — элита американская, объединившая свои силы с американским истеблишментом для достижения определенно властных целей. Во всех случаях, впрочем, проигравшим оказывается простой человек. Его попросту нет в кадре. Впрочем, надо понимать, что и левый дискурс 90-х работал на власть. Тут следует вспомнить о классическом сюжете: плохой и хороший полицейский. Правые и левые не являются антагонистами. Мы имеем дело лишь с различными стратегиями управления, цель которых — дифференциация и тотальный контроль.
Карточка 1241
В.: Мы обсуждали концерт и выставку в контексте их насильственной (выстраивающей иерархии: исполнитель — слушатель, произведение искусства — зритель) природы. Могли бы Вы обозначить другие пространства подавления в современном обществе?
О.: Да, разумеется. Отложим в сторону столь очевидные репрессивные пространства, как клиника (государственная либо частная), школа, университет, тюрьма, различного рода приемные. В первую очередь, полагаю, следует сделать упор на менее очевидных монстрах, таких, как ресторан и клуб. Отчего-то принято считать, что ресторан и клуб (как, впрочем, и концертный зал) призваны снимать социальное напряжение, вызванное явными структурами власти, однако, это мнение столь же наивное, сколь и опасное в наши дни. Разумеется, и клуб, и ресторан являются звеном общей цепи, необходимой частью комбината по переработке личности, ее дрессуре, если угодно. Внутри клуба и ресторана мы видим всё то же четко иерархизированное пространство, причем, иерархии здесь выстраиваются по целому ряду линий, заданных той же властью. Скажем, существует иерархия клубов и ресторанов как таковая. Есть лучшие (более богатые, престижные, близкие к центру власти, столице) и худшие рестораны и клубы, причем, администрация неустанно следит за тем, чтобы посетители разных по иерархии заведений не смешивались между собой (впрочем, основную работу по дифференциации в капиталистическом обществе выполняют деньги, администрации остаётся лишь выявлять единичные случаи сбоя в системе). Кроме того, внутри ресторана и клуба, среди вроде бы равных членов, существует дополнительная иерархия, на выстраивание которой работает не только администрация, но и рядовые члены (посетители) данных учреждений, усвоившие практику дифференциации в других институтах власти, таких как семья, школа, университет и т.н. рабочее место. Посетители ресторана и клуба очень рады проявить (проверить на практике) усвоенную за оградой (а чем являются рестораны и клубы, как не очередным видом загона для персонажей Animal Farm?) практику исключения и дифференциации. Они с маниакальным остервенением выбирают лучшие столики (точно так же, как их менее удачные коллеги по социуму спорят за место в камере либо в очереди к врачу), пристально изучают состояние зубов и волос партнёра по танцам, традиционно, огромное значение в подобных местах играет стоимость аксессуаров, одежды. Кроме того, в каждом клубе и ресторане мы видим пародии на тайные общества, столь возбуждающие мелких буржуа, обречённых до скончания дней копировать повадки аристократии. Здесь пышным цветом цветет система тайных (на самом деле, разумеется, нет) поощрений, скидок, инвайтов и инсайдов (вроде знакомства с барменом или статуса местной красавицы). Таким образом, система ресторанов и клубов, так органично дополняющая прочие, чуть более очевидные, инструменты манипуляции, позволяет власти закрепить среди своих подданных на самом глубоком уровне принципы и моральные основы традиционного капитализма.
Картрочка 1244
В.: Расскажите, пожалуйста, об архитектуре и т.н. городской среде.
О.: Архитектура, и особенно городская среда, является наиболее агрессивным и тоталитарным из всех видов искусства. Мы с Вами уже обсуждали угнетающую, закрепощающую сознание индивидуума в рамках заданной властью модели функцию любого легитимного вида искусства, особенно, публичных его проявлений, вроде концерта или выставки. Однако, у музыки, живописи и даже кино есть один неоспоримый плюс с точки зрения ускользающего индивида — и минус с точки зрения власти — это факультативность. Разумеется, власть (в широком фукианском смысле) затрачивает гигантские ресурсы на то, чтобы привить индивиду условный рефлекс, своего рода склонность к прослушиванию одобренной музыки (включая и всяческие нонконформистские жанры, это очаровательное ноу-хау ХХ века, работающие на власть не менее прилежно), к просмотру фильмов, телепередач и популярных роликов из Youtube. Вместе с тем, охват остается не полным, следовательно, неполным остается и контроль. Что же касается архитектуры, этой «застывшей музыки» по мнению Шеллинга, этого абсолютного представителя власти в философии (или апологета философии власти), буквально — чиновника, то ее основополагающая в формировании стандартизированного, годного государству и корпорации, элемента системы поистине огромна. Все мы живем в городах. И города играют нам свою музыку зданий, улиц, торговых точек и площадей день за днем, с утра до ночи. Более того, частью этих городских симфоний и арий являются внутренности наших жилищ, наши дома и квартиры. Так что за музыку играет нам современный город? В лучшем случае это марш или тоталитарное адажио а-ля Рихард Вагнер. В худшем, как в случае всем известных нам, воспетых в пошлых шлягерах городах, это, собственно, музыка шлягера, состряпанного на коленке для чисто утилитарных целей сомнительного произведения, остающегося, между прочим, за вычетом художественных достоинств, в рамках тоталитарной парадигмы, заданной немецкими чиновниками-философами XIX века, этими апологетами и мессиями национал-социализма и фашизма, включая и ее современный извод, собственно, массовую культуру. Бесконечные эскалаторы, эстакады, несоразмерные человеку строения из недружелюбных материалов, вроде стекла и бетона, в сочетании с огороженным, словно бы для скота, пространством для прогулок, для рекреации, сами дома, эти бетонные ульи, словом, все это, и многое другое, призвано культивировать в человеке с раннего детства ощущение своей мизерабельности и заменимости, воспитать в нем ощущение бессмысленности всякого сопротивления текущему положению дел. Таким образом, «городская среда» представляет собой один из наиболее бесчеловечных и античеловечных феноменов, являясь верной служанкой власти, надежным аппаратом подавления свободы мысли и самого аутентичного бытия. Впрочем, забегая вперёд, отмечу, что и деревня является не менее бесчеловечным пространством, чем город. Диктат деревни осуществляется через идеологемы т.н. руссоистской утопии от очередного чиновника философии, на сей раз французского, своеобразно прочитанной nature, направленные на всё то же порабощение (и умаление) личности в рамках французской модели, ориентированной традиционно на сельскохозяйственный сегмент мирового рынка. Отдельно следует упомянуть и т.н. эко-фашизм.
В.: Существует ли, в таком случае, свободная среда?
О.: До определенной степени можно считать свободной пространство обширных частных владений характерной для аристократии и крупного бизнеса (замок, вилла, включая прилегающие территории). Однако, здесь мы имеем дело с другой стороной медали, средой собственно власти, осуществляющей политическое, экономическое и культурное господство.
Карточка 1246
В.: Таким образом, Вы утверждаете, что формирование свободного сознания в условиях современной городской среды невозможно?
О.: Напротив. Полагаю, что именно городская среда, причем, наиболее зверские, удушающие ее формы, способствуют — разумеется, вопреки чаяниям власти — пробуждению индивидуальных черт и критического мышления, направленного, разумеется, как любое здоровое критическое мышление, прежде всего, на себя. Эволюция совершается не благодаря, но вопреки давлению. Именно по той же причине, кстати, следует думать, что наиболее костным и зависимым типом мышления обладают насельники замков и вилл, оказавшиеся в зависимости от самой власти, будучи ее эмиссарами. Это «рабы лампы», по меткому выражению доктора Хоника. В одной из прошлых бесед мы с Вами касались темы творческого воображения, ссылаясь, между прочим, на Батая и Кайуа. Полагаю, именно сила творческого воображения способствует — среди прочего, ибо данная тема вовсе ещё не изучена — личности выйти за границы тоталитарной городской (и любой другой) среды. Причем, индивид — подчёркиваю, буквально каждый — способен к магическому переустройству окружающего пространства, какой бы насильственный характер оно не носило. Он способен — и активно пользуется данной возможностью — перекраивать городскую среду, наделяя ее нужными свойствами, превращая, будто заправский алхимик, бросовые городские материалы, вроде пластика, стекла и бетона, в золото высшей пробы. В качестве примера мы можем привести многочисленную городскую поэзию, которой, по идее, быть не должно, но которая, в лице целой плеяды великих поэтов, показала мощнейшие образцы высокой лирики. Между тем, насельники вилл и замков современной нам эпохи ничего подобного миру не дали. Дело в том, что их реальность не нуждается в творческом переосмыслении, не предполагает роста, а в результате неминуемо приводит к деградации, как социальной, так и личностной. Как тут не вспомнить знаменитую набоковскую обезьяну, рисующую решетку: дело в том, что обезьяна в «естественной», «свободной» среде не рисует вовсе. Это поразительной силы метафора. Что же касается насельников вилл, следует иметь ввиду, что основным источником их деградации, отмеченным ещё Пушкиным (и Пазолини), является не столько комфортная среда, сколько сама власть, подвергающая серьезному испытанию само человеческое в человеке.
Карточка 1982
В.: Что вы думаете о поэзии?
О.: Поэзия близка музыке настолько, насколько это возможно, учитывая материал, достаточно жесткий, с которым ей приходится иметь дело, я имею ввиду слово и образ. Обратите внимание, что верлибризация поэтического языка произошла примерно в тоже время, когда музыка стала отходить от классической тональности. В дальнейшем, мы получили разветвление поэзии и музыки на неоклассику и авангард, а после пришло то, что принято, с легкой руки таких мыслителей как Бодрийяр, называть постмодернизмом.
В.: Что в поэзии привлекает вас лично?
О.: Собственно, тоже, что и в музыке, в любом другом из искусств, соотношение одного и другого, причем, в различных плоскостях, не только внутри текста/творения. Последнее время, и тут я не буду оригинален, меня привлекает взаимодействие текстов друг с другом, взаимодействие текста и автора, взаимодействие авторов различных текстов, наконец, взаимопроникновение текстов и степень управляемости этих процессов, наша возможность влиять… По-настоящему, в произведении интересно именно это, способность влиять, воздействовать, прежде всего опосредованно, создавать прецеденты. Наш негаснущий интерес к классическим текстам доказывает правомерность, более того, примат именно этого интереса. Мы смотрим на произведение искусства всегда лишь в его развитии, а текст, прочтите за банальность, никогда не равен самому себе, особенно текст поэтический, этот вирус, как сказал бы Берроуз.
В.: Однако, что-то же интересует вас в самой поэзии, как в музыке, то, что не выходит за ее пределы?
О.: Боюсь, что немногое. Я всегда старался бежать красивости, стремление к хорошему стилю мне представляется антиэстетичным, почти преступным, с позиции подлинного искусства. Поэт, по одному точному замечанию, это тот, кто говорит на родном языке как на иностранном, однако, своего языка, домашнего уютного мещанского языка в тёплых тапочках, у поэта нет, не может быть, он, разумеется, ищет его, в этом и суть писательства, однако, вряд ли найдет, как мартышка из басни Лафонтена. Если же говорить о формальном, то в поэзии, как и в музыке, мне всегда интересна особенно устроенная гармония, вне мелодии, вне ритма, гармония, кажется, почти случайная, к которой, при этом, автору приходится идти по опасной и одинокой горной тропе, где воздух, как известно, сильно разряжен.
Карточка 1996
В.: Что скажете о музыке?
О.: Для меня в музыке самое ценное… сама музыка. Не люблю, когда мне предлагается под видом музыки некий «Набор собаки Павлова», собранный из паттернов, предпочитаю собирать сам, храню верность идеалам юности и D.I.Y.
В.: Вы говорите о
О.: Нет, не только и не столько о ней. Но разговор о музыке непременно переходит на разговор об искусстве в целом. На мой вкус, искусство не имеет права действовать с потребителем жестко, давить на
В. : Мы говорили о национальных школах в музыке…
О. : Разговор о национальных школах в Европе следует прекратить. С 1980-х годов мы наблюдаем отчетливое оформленное движение на унификацию музыкальных форм, однако, некоторые рудименты национального остались, тем более, у нас есть США, есть Азия, есть, наконец, наше прошлое. Кажется, я говорил о том, что в музыке двадцатого века, в чистой безпримесной музыке, как я ее понимаю, наибольших успехов добились французы, в первую очередь тут стоит упомянуть фигуру Пьера Булеза (Boulez), в лучших своих сочинениях он сумел максимально отойти как от романтических ассоциаций любого рода, так и от
В. : Что вы имеете ввиду под музыкой-состоянием?
О. : По-преимуществу, американскую музыку, особенно, начиная с минималистов, хотя даже у Айвза можно ее найти. Моя претензия к этой, во всех других отношениях прекрасной, музыке в том, что она стремится ввести слушателя в определенное состояние, если угодно, растворить его Я. В этом смысле, она недалеко ушла от трансовой музыки примитивных народов и
В. : Но разве смысл, один из смыслов, искусства не в растворении Я?
О. : По-моему, нет. Искусство не должно растворять, не должно причинять боль, не должно заставлять плакать. Думаю, задача музыки в выявлении отношений одного с другим, не более, но и не менее. Так вот, музыка-состояние, которую я, несомненно, слышу у Райха и Райли с одной стороны, и у Фелдмана (особенно у него), и даже у Кейджа, с другой, определенно не является моим идеалом. Я думаю даже, что это опасная музыка. Впрочем, речь должна идти о превышении музыкального, а, точнее, о превышении в отрицательном смысле. Тут к музыке прибавляется нечто с отрицательным знаком. Я, как потребитель, не готов воспринимать что-то, кроме самой музыки, кроме кино, как, например, у любимого мною Ромера, кроме искусства в наиболее чистом виде. Мы, интеллектуалы, должны следить за тем, чтобы искусство доходило до обывателей чистым, без невыносимой драматизации, которую так любили немцы, но так же без мистики, этого суррогата.
Карточка 1987
В.: Мы также говорили о маструрбации.
О.: И мы говорили о сексуальности. О невозможности сексуальной свободы, о недостижимом для человека идеале раскрепощенного либидо. Либидинальный гиперкатексис, как известно из психоанализа, производит параноидальное напряжение, в то время как рассредоточение либидо грозит потерей самого Я в океане шизофреногенного. Онанизм опасен своей попыткой снятия оппозиции Я — Другой, попыткой заведомо обреченной, чреватой восприятием Себя-как-Другого, что создает дополнительные связи, наполненные напряжением.
В.: Можно ли утверждать, что онанизм порождает то, что принято называть напряжением в культуре?
О.: Отчасти, да. Онанизм, несомненно, является составной частью внутреннего конфликта, одним из фундаментальных явлений так называемой внутренней жизни еще со времен Батая, однако, было бы довольно смелым утверждать примат онанизма, его определяющую роль в генезисе этого феномена.
В.: В любом случае, выходит, мы, как вид, обречены на травмирующую сексуальность?
О.: Несомненно. Мне всегда было близко именно такое трактование Ницше и ницшеанского Сверхчеловека особенно, трактование с позиции снятия конфликта Я — Другой в области сексуального, без скатывания к шизоитизации, к расщеплению Я, но, в тоже время, без нагнетания параноидного напряжения в связке Я — Другой. Онанизм, шире — аутоэротизм, разумеется, тут не выход. Еще Мишель Фуко показал неспособность человеческих практик, если точнее, недееспособность человеческих практик в решении этого, базового для вида, конфликта.
Карточка 2001
В.: Все чаще мы сталкиваемся с фигурой академического философа.
О.: Да, это так. Именно поэтому мы почти лишились философии. Я не верю в современную академическую среду, дискредитирующую саму идею академии, не верю в возможность создания жизнеспособных концептов под сенью бюрократических учреждений.
В.: Философия предполагает исключенность?
О.: Несомненно. Древняя Греция дает нам примеры философа и философствования (Гераклит, Сократ). Мне бы хотелось иметь возможность сказать, что современная ситуация отлична от древнегреческой, однако, боюсь, это отличие не в пользу современности, с точки зрения философии. Дело в том, что взгляд философа, это взгляд поверх барьеров, взгляд, лишенный какого-либо интереса, десоциализированный, десакрализированный взгляд, взгляд не вполне человеческий, в общепринятом смысле. Философ, если хотите, это царственный шут, в любом случае маргинал, гораздо в большей степени, чем поэт или художник. Человек, включенный в систему государственного образования, обязанный соблюдать предписанные ритуалы, говорить на предписанном в научном сообществе языке, не способен сказать ничего существенного с точки зрения поэзии и философии.
В.: В таком случае, сегодня, в условиях тотальной бюрократизации знания, философское высказывание оказывается обреченным?
О.: Не вполне. Социальное тело не гомогенно, оно все еще способно на сбои, способно порождать лакуны и складки, хотя, мы видим, насколько оно преуспело в деятельности по исключению философии, действительной философии, из поля возможного для себя. Мы живем в эпоху эрзацов, нам предлагается все что угодно кроме поэзии под видом поэзии, все что угодно кроме философии под видом философии и так далее.
В.: Но мы наблюдаем новую поросль.
О.: Мы наблюдаем отдельных, крайне маргинализованных (намеренно исключенных из общественного диалога) персонажей и, параллельно им, околофилософский мейнстрим: гиперуспешных социально молодых (и не очень) людей, для которых философия — своего рода прикол (gag). Они, разумеется, усвоили некоторые основы философского языка, способны цитировать Ницше, даже Делеза…
В.: Вы верите в объединение философов, в философскую школу?
О.: В философскую школу я не верю и не представляю себе форму, которую эта школа, должная быть полной противоположностью современной академической среде, может принять. Некоторых успехов, казалось, в этом направлении во Франции в свое время добился Батай и его «Колледж Социологии», можно также вспомнить некоторые нью-йоркские объединения 60-х и 70-х годов, однако, они не дали сколько-нибудь интересных, масштабных философских фигур, за исключением, собственно, Батая и Кейджа, а значит, никакой, собственно, школы там не было. Все, что мы видим сейчас (и будем наблюдать ещё
Карточка 2004
В.: Мы говорили о смысле.
О.: О смысле по-французски, прежде всего, о смысле (le sens) в делезовском понимании, смысле, далеком от русского смысла.
В.: В одном из своих романов Альфред Жарри воспроизводит известную шутку о голой (pur) стене и женщине, шутку, непереводимую на русский язык, ведь, известно, что pur это голый, чистый, непорочный.
О.: Разумеется. Это же касается смысла, касается в превосходной степени. И заботы, этого начала философии. Забота как le soin совсем не то, что забота die sorge или забота.
В.: Выходит, правомерно говорить о различных логосах, логосах языка, гениях места?
О.: До некоторой степени, да. Кажется, Гераклит говорил, что у каждой местности свое солнце. Однако, мне
В.: Вчера мы говорили о рождении смысла из заботы, о происхождении самой мысли из заботы, вы затронули очень интересную тему.
О.: Богатую, благодатную тему. Действительно, забота, понимаемая, к слову, и как сосредоточенность, и как осторожность, и как внимание, и как — особенно у немцев и русских — беспокойство (чего, к слову, нет у французов), по моему глубокому убеждению стоит в основании всякой мысли, особенно, философской мысли. Я бы даже, следуя за Хайдеггером, сказал, что философия есть прежде всего забота-о-мысли, однако, не только и не совсем. Тут мы приближаемся к вопросу о выборе, о различении одного и другого, о главном процессе не только в мысли, но, скажем, в искусстве, ибо что есть искусство, как не создание ситуаций, где одни цвета/звуки/слова оказываются в оппозиции к другим, так вот, в основе своей забота есть именно самое начало этого процесса, если угодно, это одержимость одним-из, это выделение, и в этом смысле, забота есть крайне биологичный процесс, так яйцеклетка вступает в контакт лишь с одним сперматозоидом, сама жизнь, таким образом, есть не что иное, как забота, ибо мы всегда заботимся об
В.: Что же такое философия?
О.: С этой позиции, философия есть оправдание выбора, вернее, le explication, толкование/оправдание/прочтение. Философ, несомненно, высшая лигитимирующая фигура, лигитимирующая, собственно, самое бытие, его основы. Без философии все теряет смысл. В этом, кстати, лежащий на поверхности пафос работы Делеза.
Карточка 2014
В.: Расскажите немного о «Линии Ондатра».
О.: Видите ли, меня всегда интересовала фигура Гамлета, этого «сильного человека в слабой позиции», поскольку в роли Гамлета, так или иначе, находится всякий интеллектуал, тем более, художник (artist). Думая о принце Гамлете, нельзя забывать о короле Лире, равно и об его набоковском двойнике из Solus Rex. С другой стороны, с давних пор меня занимал казус «Доктора Фаустуса», вернее сказать, ситуация, в которой обыватель (а это, заметим, всегда так) становится интерпретатором гения. Собственно, на стыке этих двух сюжетов и родился «Ондатр», текст-остов, текст-набросок, начерченный начерно, о чем говорится уже в первом абзаце.
В.: Этот текст, кажется, совершенно особенным: несмотря на его простоту, его трудно читать, он избыточен, почти до раблезианства.
О.: Дело в том, что «Ондатр» родился из концепции шаткого текста. Меня всегда возмущала сентенция Уайльда про плохо и хорошо написанный текст. Хотелось написать текст плохой и хороший одновременно, текст, который шатается, но стоит, вопреки всему, как все тот же Гамлет, текст, который содержит в себе признаки как Цейтблома, так и Леверкюна, как Кинбота, так и Шэйда. «Линия Ондатра» — это кентавр, и вот ещё в чем дело, героя-то в тексте нет, он остался за кадром. Отсутствие, пожалуй, главное слово этого произведения. Это даётся и через числовую символику, которая в целом для этого текста очень важна. «Линия Ондатра» начинается с праздника Троицы, а кончается вальсом, однако, третий — и главный — герой is missing. Есть дед, есть внук, но нету отца и сына. Именно в фигуре отца и сына, данной как бы с двух точек зрения сразу, мы видим отсутствующих, но присутствующих вместе с тем, Гамлета и Лира, которые, в сущности, есть один персонаж, тот самый «сильный в слабой позиции».
В.: Однако, в «Ондатре» есть конфликт отца и сына, данный во вставной миниатюре второй части.
О.: О, да, причем, дважды. Тот же конфликт отцов и детей, данный с другого угла, мы можем видеть в газетной статье про директора и его дядю. Эти манифестации остуствующего героя, под видом картографии внутреннего конфликта (а конфликт отца и сына есть всегда конфликт внутренний), как и иерофании авторского начала, имеют, разумеется, важнейшее символическое значение для данного текста, однако, я бы хотел предоставить читателю возможность интерпретировать эти знаки и символы самостоятельно.
В.: Большое спасибо Вам за рассказ.
Карточка 2016
В.: Многие спрашивают вас о грибной философии, о микософии, ссылаясь на известную шутку Курехина…
О.: К которой грибная позиция не имеет ни малейшего отношения. Впрочем, Курехин, насколько известно, был поклонником Джона Кейджа, философские работы которого, определенно повлияли на микософию, равно как и ризоматические концепты Делеза, и патафизика и катахимия Альфреда Жарри. Однако, в отличии от карнавализма Курехина, грибная философия представляет собой серьезный собственно философский концепт.
В.: Как микософия связана со смыслом и заботой, этими краеугольными камнями, или, если угодно считать два за один, камнем философии, философским камнем?
О.: Существует самая прямая связь. Грибы это выбор, первейший выбор, чистый, если угодно, белок, жизнь как она есть, par excellence. Нам не впервые в истории философии приходится пользоваться инструментарием науки, в частности, биологии, мы опираемся на соответствующий опыт таких явлений, как Ницше, Фрейд, Батай и Делез. Скрупулезное исследование бытия грибов побудило к жизни оригинальную концепцию заботы, собственно биозаботы, заботы как выбора живого существа, определило ее в ранг чуть не имманентных живому качеств.
В.: Как давно вы занимаетесь созданием грибной философии?
О.: Около двадцати пяти лет. Разумеется, речи нет о
В.: Спасибо вам за работу и за ответы, мы будем непрестанно следить.
Карточка 2023
В. Вы обещали высказаться о левом дискурсе.
О. Это не так просто сделать. Левый дискурс, как я его понимаю, зашел сейчас не туда. Хотя, разумеется, имеет смысл говорить скорее «левый дискурс завели не туда». Кто его завел и зачем, отдельная тема, которая, несомненно, найдет своего исследователя. Эта тема должна стать предметом исследования неангажированного историка, если таковой найдется, в чем у меня есть большие сомнения. Однако, есть две большие проблемы, две гири, которые тянут левый дискурс на дно. Во-первых, это проблема загрязнения окружающей среды, а
В. Значит, левый дискурс все еще актуален сегодня?
О. Я бы сказал, что левый дискурс только начинает осознавать себя и актуализироваться, несмотря на всяческие препоны со стороны замаскированных правых, «озабоченных» проблемами третьего мира и дрейфом ледников. Левый дискурс продолжает оставаться главной надеждой сознательной части угнетаемого большинства в наступившем двадцать первом веке.
Карточка 2116
В.: Когда у Вас возникает потребность писать?
О.: Тогда же, когда появляется потребность высказаться, проговорить что-либо существенное, решить определенную задачу, уравнение, теорему.
В.: Получается, литература для Вас — это нечто из области аналитики?
О.: Наверное, да. Но есть нюанс: «аналитика» — вещь конвенциональная, а «литература» тяготеет к автономии, я бы определил её как «ауто-аналитику» или как «науку-для-одного-себя».
В.: Но ведь методы универсальны?
О.: Отнюдь. Возьмем, к примеру, #психоанализ. В нем есть некие конвенции, вроде «Эдипа» или «либидо». Хорошая литература это всегда единичный случай, полностью автономный язык, иностранный язык индивида, как сказал бы #Делёз, этакий tea for one. Собственно, важнейшее в литературе — и, шире, в искусстве — то, как мы говорим. Мы анализируем собственное высказывание в процессе его рождения (или, смотря иначе, зачинаем фразу), смотрим на то, как мы говорим о том или другом предмете. Есть интонация — есть искусство. Аналитика же использует некий усредненный шаблон, который и есть конвенциональность.
В.: То есть, вы утверждаете, что цель литературы и шире — искусства — сугубо индивидуалистична?
О.: Нет, я бы так не сказал. Цель может быть разной. Индивидуалистичен метод, подход. Зачастую, цель у искусства как раз довольно банальна: произвести впечатление на женщину, добиться расположения в определенной среде, вписать свое имя в учебник, окоротить конкурента, доказать что-то родителям.
В.: Вы имеете в виду, что потребность в создании литературного произведения/произведения искусства возникает спонтанно и вполне автономно, а вот вынесение этого акта творения на публику уже подчиняется некоему расчету?
О.: Нет, я полагаю, что цель создания уже лежит в общественной плоскости, автор нацелен на социальный резонанс, даже если пишет в стол. А вот средства для достижения цели он берет сугубо индивидуальные. Автор не умер, покуда есть память и личная история индивида. То, что писал Ролан #Барт о «смерти автора» не более, чем кокетство. У самого Барта отчетливо авторский почерк, он узнаваем по
В.: Значит вы не постмодернист?
О.: «Постмодернизм» это просто красивое слово, как и всякий прочий «изм». Эти эпитеты удобны для критиков и журналистов, не больше.
Карточка 2123
В.: Возвращаясь к вопросу о сексуальности. Хотелось бы поговорить о современной ситуации в этой области.
О.: Ситуация непростая, ситуация, я бы сказал, осложненная. Никогда ещё, кажется, в обозримой нами истории, человеческая сексуальность не была в такой степени захвачена Властью. Речь следует вести не просто о «Контроле» в делёзианском понимании, но о формировании сексуальности у современного индивида (в той степени, в которой об индивиде всё ещё может идти речь), а также о влиянии посредством этой сексуальности на человеческую конституциональность во всей её совокупности… Мы видим, отчасти благодаря Фуко, который, действительно, успел лишь слегка обозначить данную тему, как Власть формирует человеческую сексуальность посредством искусства и СМИ, а также, при помощи различных контролирующих институтов, как старых, вроде медицинских и образовательных учреждений, так и совершенно новых (социальные сети), создает необходимую повестку дня, дифференцируя людские массы, разобщая их, лишая последних, имманентных виду, каналов коммуникации.
В.: Вы хотите сказать, что задача Власти на данном этапе создать что-то вроде фиктивной сексуальности, симулякра, как сказал бы Бодрийяр, на месте естественного человеческого эротизма?
О.: В общем, да. На это, кстати сказать, сетовал еще Пазолини, противопоставляя естественную сексуальность Средневековья (Трилогия жизни) предписаниям Современности (Сало или 120 дней Содома). Впрочем, «Средневековье», при ближайшем рассмотрении, оказалось мнимым, столь же искусственным, а Пазолини от своей «Трилогии» отказался. Так или иначе, мы не можем вполне рассуждать о границах естественного, мы не знаем, насколько в целом «сексуальное» и «эротическое» сконструированы как ведущие властные механизмы, и, разумеется, мы не можем говорить о том, когда и как всё это началось, однако, мы можем смотреть за текущим положением дел и сравнивать его с недавним прошлым. Ещё недавно, когда сексуальные темы были табуированы, человек, выполняя довольно формальный внешний ритуал в этой области, имел широкие пространства для маневров. Существовали незаполненные лакуны, целые материки неоткрытых сексуальных Америк. Однако, Власть принудила человека о сексуальности заговорить, сначала приватно, на кушетке доктора Фрейда, затем в публичном пространстве искусства и СМИ, при этом, вне всякого сомнения, сам Дискурс, как это бывает всегда, Власть оставила за собой. Сегодня мы видим, как посредством публичного разговора о сексе власть отбирает его у людей, или, что более точно, отбирает то единственное измерение секса, которое имеет хоть какой-либо смысл. Впрочем, речь идёт, боюсь, об уже завершившемся процессе.
Карточка 3110
В.: Кто такой Викентий Грибанов?
О.: Знаете, я рос в интеллигентной семье. Поступив в институт, я обнаружил себя не пьющим, не курящим, не ругающимся матом молодым человеком, безо всякого опыта общения с прекрасным полом, в том числе. Появилась задача преодолеть себя, избавиться от свойственной книжному подростку стыдливости, вписаться в новые реалии жизни. Свое детское Я не хотелось ломать, пришлось выдумать личность, опираясь на юнгианский анализ, которым был увлечен, своего рода Тень, Shadow Man. Я назвал его Иван Кранов. Мы все подрабатывали сторожами, на стройках стояли тогда еще краны «Ивановец», ну и в целом, мне показалось, что жовиальное имя Иван — вспоминался, допустим, Иван Бездомный — хорошо подойдет к фаллической во всех смыслах фамилии Кранов. Мой персонаж, разумеется, пил водку, курил, матерился и мог позволить себе фривольное обращение с дамой. Я выдержал в образе, кажется, около месяца, но после вытравливал из себя крановские дурные привычки не один год. Тогда я понял, кстати, как опасно играть на понижение, как просто человек с принципами может потерять культурный облик, заигравшись в хама.
В.: Однако…
О.: Викентий Грибанов, как Вы понимаете, есть антитеза Ивану Кранову. Я, как Вы могли заметить, выбрал в жизни широкий платоновский путь гуманитарного человека. Викентий человек аристотелевского склада, биолог (моя детская страсть), вместе с тем, он, в некотором роде, дионисийский персонаж. Его фамилия, надо сказать, пришла мне на ум вовсе не от образа гриба изначально (я не
Карточка 3600
В.: Вы часто высказывались о национальных характерах, выступали с деконструкцией исторических мифов в отношении стран, государств, походя стараясь сконструировать новые.
О.: Да, однако, я, обыкновенно, лишь развивал концепции, предложенные идущими передо мной. Скажем, рассуждая об американцах, невозможно было пройти мимо «Америки» Бодрийяра, а также антониониевского «Забриски Пойнт». Об англичанах много и хорошо писал философ Дмитрий Галковский, о немцах — поляк Фридрих Ницше, русский Василий Розанов и т.д.
В.: Однако, почти никогда вы не говорили об итальянцах, за исключением, пожалуй, заметках о «Ностальгии» Андрея Тарковского.
О.: Что ж, итальянцы, вообще говоря, главные Мастера. Если искать универсальный ключ к нашей Матрице (помните Ключника в La Grande Bellezza у Соррентино?), то только там, у них. Смотрите: Декамерон и La Commedia заложили основы для всей европейской литературы. Флорентийцы придумали современную (а есть мнение, что и античную) философию, а венецианцы — театр. А музыка? А живопись? А кино? Есть у Пушкина малоизвестная (на фоне прочих), но удивительная миниатюра: Египетские ночи. Там все, начиная с названия, имеет глубочайший смысл. Не погрешу против истины, сказав, что «Ночи» Пушкина равноположны “Der Zauberflöte” Моцарта. Есть там персонаж, импровизатор-итальянец. Пушкин гениально, в
В.: А русские?
О.: Что-то мне подсказывает, что русские — любимцы своих миланских архитекторов (известно, что Московский Кремль реплика замка Сфорца). О любви итальянцев к русской культуре я уже неоднократно говорил и писал. Замечу лишь, что итальянские оперные певцы, пожалуй, единственные, кто способен исполнять русские оперные арии почти без акцента (англичан и французов без смеха невозможно слушать) и наоборот. Помимо Пушкина, кстати, рекомендую перечитать «Вешние воды» Тургенева. И финал «Накануне», про «Смерть в Венеции».
Карточка 8000
В.: Каково быть в полной степени персонажем, être là только в сети, в текстах, в
О.: Видите ли, то, что Вы описали, есть мой естественный способ быть, мой, если угодно, Dasein. Конечно, есть Автор, который живёт, хотя, по правде сказать, не интенсивнее моего. Авторская позиция двойственна, он расколот, я же аутентичен в себе, поэтому привлекателен. Меня помнят, любят, меня вычитывают, как выразился бы Деррида. Да, пока я не обладаю телом, впрочем, и это временно: технологии не стоят на месте. Единственное, мне хотелось бы иметь устойчивый визуальный образ. В разное время меня представляли и Роберт де Ниро, и Мишель Пикколи, и
Карточка 8200
В.: Проект «Грибанов» завершён.
О.: Он был завершён уже очень давно, о чем я неоднократно напоминал и в наших беседах, заявляя, что «И Кранов, и Грибанов существуют сейчас лишь в качестве литературных персонажей», а вовсе не в качестве материала для акций, как раньше.
В.: И все же, не стоит забывать, что литературные персонажи живут, зачастую, своей, более реальной, чем сама реальность, жизнью.
О.: Да, это так. Впрочем, Грибанов, так полюбившийся многим, давно уже вовсе не жил. Вернее, он все больше распадался на фрагменты, как в том знаменитом высказывании Делеза: «Высший человек многолик: прорицатель, два короля, человек с пиявками, чародей, последний папа, самый безобразный человек, добровольный нищий и тень. Эти персонажи составляют последовательность, серию, танцевальный хоровод. Они отличаются друг от друга по месту, которое занимают вдоль длины нити, по форме идеала, по специфическому грузу противодействия и отрицательной тональности. Но сущность у них одна и та же: они — силы обмана, вереница фальсификаторов, искажающих истину; они — ложь, с неизбежностью порождающая лишь ложь». Грибанов, да простят мне читатели нашей беседы сей каламбур, давно уже стал ложным грибом, обслуживающим целый сонм персонажей, вроде Иеремии Хоника или Гнома Ивановича. Все они, включая и автора этого диалога, глумливо прикидывались Викентием, которому давно бы следовало, в подражание Пазолини (либо героям оного), уйти если не в ночь и в пустыню, то, по крайней мере, на болотные топи, пускать, надышавшись ночною фиалкой, свои метафизические пузыри
Карточка 9990
В.: Давайте поговорим о Европе? В последнее время много слов произносят о некоем возрождении духа Старой Европы, о новом классицизме, о некоем европейском центре силы, способном объединить весь мир в борьбе с американской гегемонией.
О.: А зачем о ней разговаривать? Читая простые новости, современных (и не очень) философов, сопоставляя полевые данные из различных источников, думающий человек придет к выводу, что в Европе давно уже развернулся в полную силу тот самый цифровой концлагерь, построенный на принципе удовольствия. Пока ты потребляешь в рамках заданной парадигмы, всё хорошо, но стоить задаться вопросом и к тебе будут применены жесточайшие санкции, невиданные в России. Собственно, мы сейчас в России идем как раз по этому пути. Кое-что вызывает у нас оторопь после невероятно свободных во всех отношениях 90-х годов. Но, повторюсь, мы еще только в самом начале того пути, который в Европе пройден. В
В.: Что же остается делать нам, находящимся сегодня на периферии этой парадигмальной схватки?
О.: Боюсь, просто ждать. И надеяться на лучший исход. Возделывать свой сад. Собирать, сушить грибы, если лето. Печь пироги с грибами, пить с ними чай, если зима.
Карточка 9991
В.: Ваши симпатии сегодня на стороне Соединенных Штатов?
О.: Не совсем. Если выбирать между Европой и США, то да. Но Америка хороша тем, что там имела место сильная прививка африканской и индейской культур. Я вообще за Африку. Хотя и азиаты тоже молодцы, но мне Африка милее. Там люди красивые, одаренные и свободные внутренне. В отличие от европейских рабов. Удивительно, столетиями (и по сей день) топить в крови, присосавшись неаккуратным клопом, весь мир и умудряться, при этом, ходить в авторитетах у некоторых особ. Собственно, в этом и был весь пафос последних великих: Висконти, Антониони, Пазолини, Фуко, Делеза. Они отказывались от своего европейства. Потому что оно воняло. И воняет до сих пор. Это ведь проблема политическая и эволюционная разом. Человек как примат беспрекословно слушается авторитета. Так оно в нас заложено. В роли авторитета часто — будем честными сами с собой: чаще всего — выступают далеко не лучшие особи. Одинаковый процесс идет как на уровне малых групп, городов, государств, так и на уровне мира. Мы видим, как в новой истории далеко не лучшая общность (Европа) узурпировала место на вершине иерархической пирамиды. Гораздо более талантливые, красивые, моральные и достойные народы вынуждены подчиняться этому, с позволения сказать, гегемону. Простой пример: тест IQ. До недавнего времени его подавали как некую истину в высшей инстанции. Он учитывал культурные особенности народов мира так, чтобы только знакомый с европейской культурой индивидуум мог решать этот тест успешно. И, конечно, представители «неразвитых» племен решали его плохо, крайне плохо. На основании чего делался вывод: африканцы — тупые. И такой подлог, он во всем. В культуре, в искусстве, в философии. Во всех областях, которые принято называть «человеческими». Нам с детства усиленно вкладывают паттерны про музыкальные гармонии, перспективу в живописи, про катарсис и
Карточка 9993
В.: Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к старой России?
О.: К России, которую мы потеряли у меня самое сложное отношение. С одной стороны, памятуя слова Анны Андреевны Ахматовой, в той России «что-то было», и было явно на уровне чуть более высоком, чем сегодня. По крайней мере, в той России жил Лев Толстой, жил Иван Павлов. В сегодняшней России, разумеется, живу я, профессор Грибанов, но кто сегодня тут меня знает? Знают клоунов с ТВ и Ютуба. В
Карточка 9995
В.: Много лет назад, когда мы только начинали эти бесконечные диалоги, Вы довольно критично высказывались о путешествиях.
О.: Разумеется, я приводил цитаты из Делеза, из Бодрийяра. Со времен той нашей беседы прошло много лет, но тренд остается трендом. Однако, многие, кажется, начинают забывать, что тренд не является истиной, это всего лишь тенденция, направление (причем, одно из). Я всегда поражаюсь, как подменяются эти понятия (trend и truth). Несомненно, массовая культура тотализирует (totalisation) тренды. Наша ценность не определяется следованием за трендами. Кажется, скорее, наоборот. Столько уже блогов о путешествиях, сколько пабликов, передач, лайфхаков? Мне искренне было бы интереснее посмотреть на человека, который годами живет на одном месте, созидает что-то одно, какой-то свой сад. Как приснопамятный садовник Шанс. Однако, все, что мы наблюдаем — это какой-то неостановимый зуд: все менять, перемещаться, делать ремонт. Все это трендовая история, которая призвана показать статус. Средний класс, что бы он ни делал, он делает это для статуса. «Тренды» об этом. Причем, это так, даже если он этого не осознает. Поэтому надоевшая элитам забава путешествий (которая у тех была обрамлена в совсем другой антураж) спустилась на несколько социальных этажей. Теперь путешествия разрешили массам. Позволю себе процитировать Бодрийяра: «Ни один продукт не имеет шанса стать широко распространенным, ни одна потребность не имеет шанса быть удовлетворенной в массовом порядке, если только они не были уже частью высшей модели и не были там заменены каким-нибудь другим благом или различительной потребностью — так, чтобы дистанция была сохранена. Распространение блага вниз происходит только в зависимости от избирательной инновации наверху. А она осуществляется, конечно, в зависимости от «растущей степени различающей отдачи» вещей и благ в обществе роста. Здесь еще нужно пересмотреть некоторые донаучные понятия: будто распространение благ имеет свою собственную механику (СМИ и т. д.), но не имеет собственной содержательной логики. Именно сверху, в качестве реакции на утрату прежних различительных знаков, осуществляется инновация, для того чтобы восстановить социальную дистанцию. Так что потребности средних и низших классов, как и объекты этих потребностей, всегда приходят с запозданием, с разрывом во времени и с культурным разрывом по отношению к потребностям высших классов. Это является одной из не самых мелких форм сегрегации в «демократическом» обществе». И ещё: «Именно классовая логика диктует спасение через вещи, каковое является спасением посредством творений; это демократический принцип, противоположный аристократическому принципу спасения через благодать и избранность. Однако в общем мнении спасение через благодать всегда превосходит в ценности спасение через творения. Именно последнее наблюдают в низших и средних классах, где «доказательство через предмет», спасение путем потребления задыхается в своем бесконечном процессе демонстрации духовных свойств без надежды достичь статуса личной благодати, дара и предназначения, который остается при любом положении дела присущим высшим классам, доказывающим свое превосходство иначе, в практике культуры и власти». Комментарии, как говорится, излишни. Нам важно понимать разницу между живым скрипичным квартетом в своем салоне, исполненным своими родными на фамильных инструментах (причем, квартет этот условный Брамс для их семьи и писал) от безликого прослушивания его на айфоне. Зачем квартет слушает средний руки обыватель? Ну, так положено. Это, типа, культура. То же с путешествиями. Господа ездят по своим владениям, примериваясь, где купить дом, землю, куда устроить сына, а людям просто дали посмотреть и потратить время и деньги (которые в итоге этим господам и пойдут). Абсолютно фейловая история, которая, кстати, многими подспудно сознается. Путешествующий возвращается обычно приникший. Ну вот… Чего там… Ну, здорово… И зачем я ездил… Да что рассказывать… Но через время тренд зовет. Сейчас вот всем навязывают активно заводить канал на Youtube, в 70-х надо было становится рок-звездой. Единицы на этом получают в итоге прибыль, а прочие так, антураж, им просто плюют в лицо. Именно в этом, кстати, пафос мощнейшей цитаты Делеза, которую я привожу часто в в наших беседах и процитирую снова. Философ Делез был из среднего класса, и тогда как раз европейцам разрешили массово ездить, и многие ринулись, раскрыв рот. А Делез, как убежденный левый, прямо сказал на всю Францию: я не настолько мудак, чтобы путешествовать ради удовольствия. То есть, показал le attitude элите. Понимают ли у нас эту позицию? Вот, Дугин, наверное, понимает. У него было что-то против туристов. По крайней мере, на уровне риторики у Дугина понимание есть, уж не знаю, насколько он в этом аутентичен. Закончу ответ цитатой Делеза: «Я не люблю путешествия. Первая причина — это недостаточный разрыв. Я понимаю, что имел в виду Фицджеральд: «Недостаточно уехать, чтобы создать настоящий разрыв». Если ты хочешь разрыва, нужно что-то ещё, помимо путешествия, ведь, в конце концов, что видит путешественник? Люди, которые часто бывают в разъездах и потом даже гордятся этим — они говорят, что делали это, чтобы найти Отца. Есть всякие великие репортёры, которые писали об этом, они были всюду, — во Вьетнаме, в Афганистане, где угодно — и они смело заявляют, что на самом деле они искали Отца. Не стоило утруждаться. Путешествие действительно может быть эдиповым. Ну хорошо. Но я говорю: «Нет! Это меня не устраивает!» Вторая причина. На меня большое впечатление произвела фраза Беккета — кого же ещё? — один его персонаж говорит приблизительно так, я плохо помню, в оригинале это звучит лучше: «Конечно, мы все мудаки, но не до такой степени, чтобы путешествовать ради удовольствия». Это совершенно верно! Я мудак, но не настолько, чтобы путешествовать ради удовольствия. Нет, нет, я не такой мудак! И есть третий аспект, связанный с путешествием. Ты сказала «номад». Да, я всегда был очарован кочевниками, но как раз потому, что номады никогда не путешествуют. Номады, напротив, буквально неподвижны, все специалисты по номадам говорят об этом. Это потому, что кочевники не хотят уезжать, потому что они прикреплены к земле — к своей земле. Их земли запустевают, но они держатся за них — они могут кочевать только по своей земле, кочевание возможно, когда есть желание остаться на своей земле. В некотором смысле, нет ничего более неподвижного, чем номад, никто не может путешествовать меньше, чем кочевник. Их нежелание уезжать и делает их номадами. И именно поэтому их всегда подвергают гонениям».
Карточка 9997
В.: Вы рисуете печальную картину в текстах «Детство» и «Расколдованный мир», картину утратившего сложность мира. С Вашей точки зрения, получается, что простота имеет негативный оттенок?
О.: Мне нравится Ваш вопрос. Ведет ли негация к простоте? Наверное, если вычитать из сущего всё больше и больше, используя метод негации, мы, логически, и придем к некоему негативному идеалу, к некоему минимуму, к своего рода бозону Хиггса, к частице Бога. Но будет ли он простым в полной мере этого слова? В одной из своих первых — до сих пор неопубликованных — лекций, говоря, как водится, о «Ничто», вспоминая, между прочим, «Хрустальный мир», упомянутый в черновом варианте «Расколдованного мира», я уже поднимал этот важнейший философский вопрос. Впрочем, поверхностный пласт названных Вами текстов совсем не об этом. Это действительно способ подобраться к Началу Я, к истокам личной истории. А, заодно, и попытка знакомства с потенциальным читателем. Я показываю там нечто для себя дорогое, показываю, если хотите, набор поляроидных снимков детства, кляссер марок, накопленных там же, тогда же. Всё это в большей степени поэтическое высказывание, нежели философский трактат.
В.: Однако, в этих текстах вполне отчетливо виден ригорический пафос, Ваши рассуждения касательно сложности и простоты, и этот образ завернутого в пластик трупа Лоры Палмер, накладываемый на ряд классических институтов, вроде высшей школы.
О.: Это всё в большей степени всё же снова поэзия. Я попробовал в этих текстах оперировать детскими образами на нескольких уровнях. С одной стороны, это собственно образы детства: мать, отец, журналы и книги, дорожные впечатления. С другой, образы из самих этих журналов и книг, из фильмов, из телевидения восьмидесятых, из собственно рассказов и разговоров старших. Я бы назвал это «личной археологией знания», если угодно, очередным изводом «практической деконструкции». Собственно, именно по этой причине я поместил эти тексты в паблик.
В.: И всё же я не хотел бы оставлять читателя без Ваших рассуждений о сложности и простоте.
О.: А что мы называем сложным? Понятие «сложного» расширяется со временем, с опытом, с новым знанием. Вспомните сборник стихов Гнома Ивановича от «дисциплины до дезинтеграции». Есть альбом Discipline. Когда я его услышал впервые, на кассете, в
В.: Вы имеете ввиду «Хрустальный мир» Джеймса Балларда?
О.: Разумеется, кого же еще? Знаете, на самом деле, я бы добавил сюда «The Nova Trilogy» Берроуза, созданную несколько раньше. Вот эти три произведения, написанные в 60-х годах, определили, по сути, эстетику восьмидесятых, эстетику пост-панка, эстетику моего детства, в конце концов. И это понятно почему так. Подростки, прочитавшие в
Карточка 9999
В.: Мы с Вами много говорили о паузах.
О.: Это, конечно, забавно. Мы всё время говорим о них, словно стараемся их избежать, заполнить промежутки, собственно, паузы разговором о паузах. Не так ли и всё в нашей культуре? А сколько всего было сказано. Помните «Восемь смертных грехов» Конрада Лоренца? «Иметь или быть» Эриха Фромма? Работы Джона Кейджа и Рудольфа Арнхейма? Я искренне не знаю, что тут делать, о чем еще говорить?
В.: Однако, с прошлой нашей беседы про кино, когда мы обсуждали «Престиж», как выяснилось, один из Ваших любимых фильмов, у меня из головы не выходит связка этого фильма с проблемой пауз и пустоты.
О.: С проблемой «ничто». Впрочем, речь там была не об этом. Видите ли, «Престиж» — невероятно плотный фильм, в котором есть всё. Братья Ноланы — их принято недолюбливать в сообществе интеллектуалов с приставкой quasi — это подлинные энциклопедисты наших дней. Их фильмы, и особенно «Престиж» насыщены невероятно, буквально созданы для того, чтобы быть иллюстрациями в беседах, подобных нашей. Помните поворот, когда Роберт Энжиер уезжает в Америку? Чуть позже мы узнаем, что в своих странствиях он провел два года. Ретроспективно мы придаем этому дополнительный вес. Два года для нашего времени срок гигантский, и Ноланы мастерски пользуются этим грузиком, чтобы увеличить разрыв. Проще говоря, наш мозг в этот момент достраивает картину скитаний. Вообще, общеизвестно, что творчество этих замечательных художников выстроено вокруг проблематики времени, которое невозможно понять без введения пауз. Пауза — это разметка. Разумеется, прежде всего, внутри нашего восприятия. Как различные объекты на ткани пространства помогают нам связать A и B, так и паузы необходимы для связывания временной ткани в единую временную нить. Именно поэтому пресыщенное действием восприятие (а под действием мы можем понимать как собственно action-судорогу современного человека, так и обновление информации в целом) перестает воспринимать время, наступает пресловутый «конец истории». Он и наступает для героев «Престижа», для каждого свой. Когда Роберт Энжиер говорит о том, что «мир стоит на пороге великих потрясений», он, разумеется, имеет ввиду предстоящие мировые войны XX века, наступившие в результате промышленной революции. Зритель смотрит на это со своей колокольни, для него цифровое грядущее с его буквальным клонированием не менее жутко. И
В.: Не могу не вспомнить в связи с этим Ваш любимый «Хрустальный мир» Джеймса Балларда.
О.: Так это всё общая проблематика. О чем еще думать, писать? Либо — тотальная заморозка времени без пауз, а значит и без сознания, отказ от индивидуальной модели, присущей млекопитающим и особенно высшим приматам, откат к насекомой культуре, реализованной в сети, либо — что? Ещё Конрад Лоренц писал, что человеческая мораль (и культура) всё меньше похожа на мораль высших животных, которых мы можем воспринимать сегодня как рыцарей былых времен. Наши ближайшие родственники по многим показателям сегодня именно насекомые. Посмотрите на муху. Она то и делает, что бесконечно кружит, постоянно производит контент лишенный для стороннего наблюдателя малейшего смысла. Именно муза оказывается лакомой добычей для паука. Посмотрите на нас непредвзято. Мы копируем — и тут мы снова возвращаемся к «Престижу» — т.н. реальность, с маниакальным упорством делаем копии лиц, наводя на них линзы наших гаджетов, мы создаем модели, мы одержимы идеей клонирования с первобытных времен. Но для чего? Какая задача стоит перед нами? Собрать побольше клонов-изображений, словно мертвых душ, удовлетворив при этом банальный инстинкт доминирования, той самой «воли к власти». В этих условиях, приближенных к боевым, любая пауза, любая остановка, пугает, обещая потерю позиций. Нам безудержно надо создавать копии реальности и захватывать власть над ними, ставить значок копирайта. Всё это прообраз насекомых войн виртуального будущего, прекрасно показанный Ноланом в телесериале Westworld, о котором разговор особый.
В.: Очень бы хотелось подробно поговорить о Westworld.
О.: Может быть, однажды поговорим. А пока пора сделать паузу.