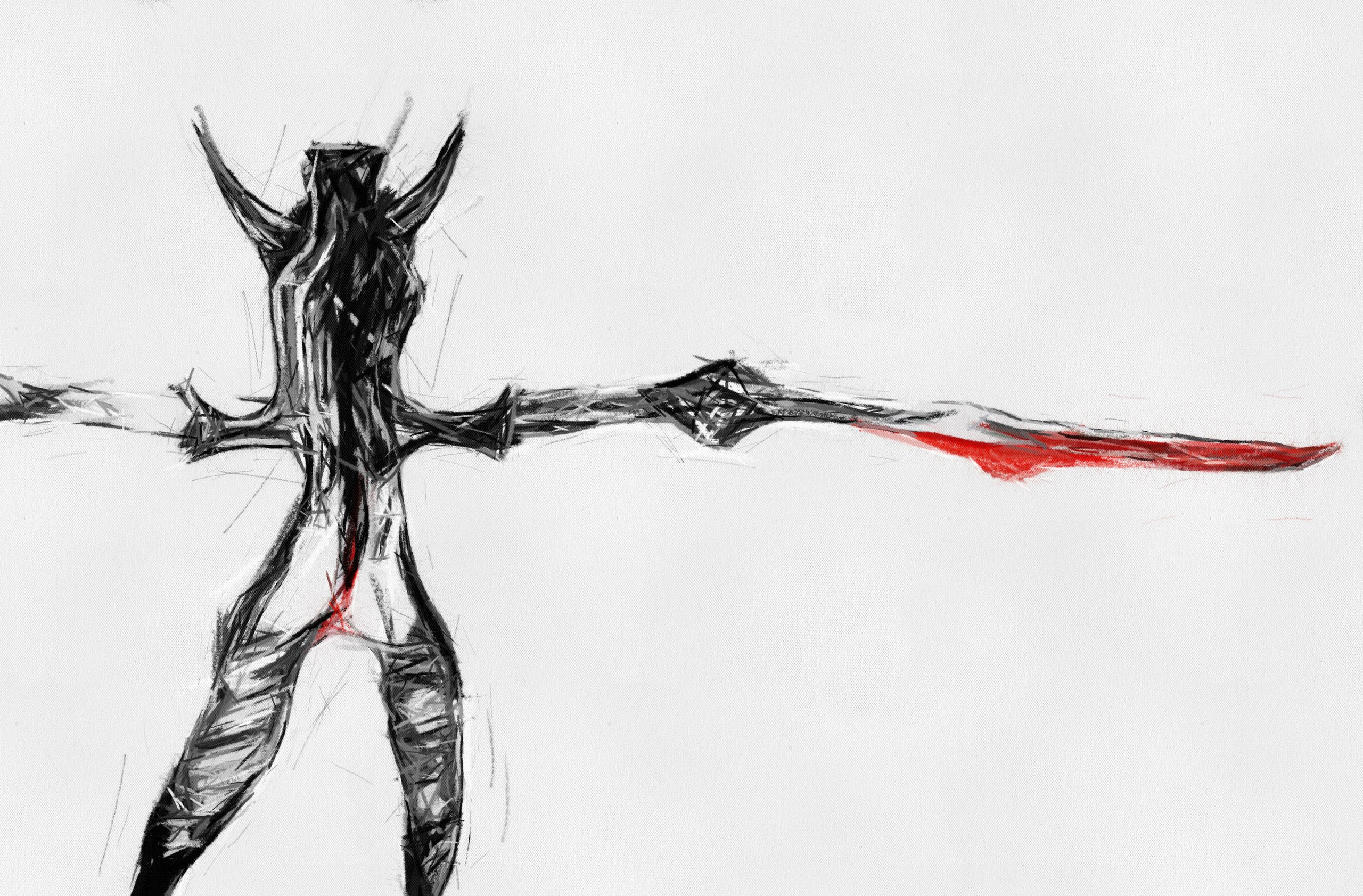Женщины
Помню, влюбился. Она училась курсом старше, но была чуточку младше меня. Помню изящные смуглокожие ступни в рыжих морщинистых сабо, помню чувственный рот и карие — вроде бы карие — глаза, из тех, что называют в дурных романах глазами «раненой лани». Решил особенно познакомиться, а не особенно не умел, да и теперь не умею, чувствую себя бодлеровским альбатросом на палубе клуба знакомств. В общем, выяснил в деканате почтовый адрес и стал отсылать ей тайные письма. Каждый день — по письму. Постепенно, разумеется, рассыпая намёки, постепенно, разумеется, открывая себя.
Впрочем, вру. Ещё до того, я запросил у приятеля две контрамарки на «Орфея» Кокто в киноклуб «Чаплiнъ». Причём, уговорил его, соучредителя киноклуба, сопроводить контрамарку именным приглашением. Затем — адрес мне раздобыл всё тот же приятель — отправился к ней. Она жила в самом отдалённом районе города. Сказать в спальном, значит, не сказать ничего. В районе, где исстари проживали исконно рабочие семьи. Впрочем, как это часто бывает в подобных районах, дверь в подъезд einstürzende neubauten была укреплена двойной бронированной дверью с новомодным по тем временам домофоном (всё верно: опасный район, “ebenja”, как бы выразился другой мой тогдашний приятель). Пока я ждал, подступила ночь, чудная зимняя ночь. До дома путь неблизкий (цитирую роман «Восемь»). Но я всё же добился тогда своего: подсунул приглашение с контрамаркой под обитую жестью бронированную дверь, а на следующий вечер мы с другом нервно курили возле входа в «Чаплинъ», ожидая девушку — пусть она так и будет здесь значиться «девушкой» — до последних минут, до начала «Орфея», но она, разумеется, не пришла, а я всё ждал и ждал, и так начались мои письма. В первом была почтовая марка без зубьев с картиной Пикассо, где розовый мальчик — или девочка в голубом? — держит в руках белого голубя, во втором — цитата из «Почтовой открытки» Деррида, в третьем — хокку на салфетке из студенческой столовой (первый неловкий намёк), в четвёртом — разрезанный на слова текст любовной песни Жака Бреля, целый дождик из слов мог получиться, если взять и высыпать их из конверта на ёлку, а было как раз Рождество. Всего девять писем отправил, наверное. И десятое, уже с подписью должно было быть, с признанием. Вычислила меня, впрочем, до. Не оттого, что блистала дедукцией, просто я уже сильно открылся, описал себя, может быть, свой берет, пальто. Выловила на переменке. Хорош — говорит — писать, почтальон озверел, крутит пальцем у виска, перед соседями осрамил ты меня, и вообще, отвяжись, fucking asshole. Грубо так говорит, с матерком, голосом полным… страха? Но нет, сам виноват, что влюбился в созданный образ. Юный и глупый дримёр. А ведь сразу подумал: вдруг страх всё испортит? И сам же боялся до дрожи. Но рискнул, и поставил на кон. И подумал опять же: как же наша извечная тяга к тайне? К загадке? Со времён Адама и Евы человека тянет узнать: что же будет, а если будет, то что? Сердце — особенно юное девичье сердце — замирает — должно замирать! — в сладкой истоме, когда мы видим оповещение о входящем: от кого? А вдруг это — Он? И кто этот Он? Автор? Бог? Другой? Тот самый? А потом, увидав уже подпись какой-нибудь N. мы обмякаем. Определенность гонит страх, но вместе с ним и нечто большее, нечто — важнейшее. Так, впрочем, бывает лишь в юности. А потом мы стареем. И злимся. И портимся. И ворчим. И переминаемся с боку на бок. И больше не нужно сюрпризов. Но я ставил на авантюрную жилку. На юность. На чистоту. И ошибся. А идея с письмами была хороша… Выбросила, наверное, письма. Так, между прочим, началась «Практическая деконструкция»
Да, простоту начинаешь ценить, когда всё прошло, пережито, перетестировано, когда познал банальные радости плоти. Студентом, я не понимал этот лозунг первых лондонских панков: sex is fascism. Чистому юноше (pure young boy) совокупление часто кажется загадочно-прекрасным, чуть ли не главным занятием в жизни. О, если бы мы слушали чудного Уорхола, сказавшего однажды: секс — это тоска! Он рекомендовал мужчинам и женщинам как можно дольше тянуть с погружением в радости плоти. Я продержался только до двадцати трех. Alas. Мужественный писатель Эрнест Хемингуэй сетовал на то, что в нашем обществе слишком много внимания уделяется вопросам пола. А что бы он сказал сегодня? Наверное, повторно бы застрелился. Но девственные мечтательные студенты, как мотыльки летят на огонь. Когда «гноящаяся рана между женских ног» (выражение Жоржа Батая) еще обладает властью, не до простоты, не до открытости. Хочется священнодействовать.
Впрочем, бывало и так. После пьянки мы, второкурсники, стекались в «общагу». Некоторые из нас — те, кто пьянее — расползлись уже по панцирным койкам. Попарно, разумеется: пьяные, похотливые звери (la brute). Мне тоже досталась пара, кудрявая крашеная блондинка. Мы танцевали с ней раньше, в пивной (один из «наших» там разбил бокал), целовались, может быть. Хотя вряд ли я её тогда целовал. Но держались вместе, и в
Помню, на первом курсе я познакомился с милой (sweet) девочкой из маленького городка. Мы переглядывались на лекциях, писали друг другу записки. Не знаю, зачем это делал? Наверное, хотелось «как все». Ходили в библиотеку вдвоём. Я пытался шутить. Выходило глупо, и было стыдно за себя. Девочка была далека от учебного процесса, но на каждом наманикюренном пальчике имела по золотому колечку. Это было вульгарно и очаровательно. Мой бывший теперь уже друг так и не понял, а вот Феллини бы, думаю, оценил. Девочка хотела, чтобы я помогал ей с учёбой. А я отлынивал, выскальзывал из рук, мнясь то Дунаевым из романа Пепперштейна, то колобком из народной сказки. Я всегда пропадал куда-то. С
Следующей была Ливнева. Кранов и Ливнева. Кажется, сам язык распорядился, чтобы эти двое были вместе. Многие думают, что псевдоним «Иван Кранов» произошел от крана «Ивановец», что стоял на стройке, где мы, служа сторожами, проводили симпозиумы. Но это лишь полуправда. Иван Кранов мочился в раковину — вот правда, для самых близких. Для избранных. Ливень льёт, кран струит. Всё сходится, не так ли? На теле у Ливневой было к тому времени двадцать шесть дырок — о, это число двадцать шесть! сколько еще оно преследовало меня! — и я прислал ей на вахту (ну, разумеется, она жила всё в той же «общаге») письмо: белый лист, прокуренный двадцать шесть раз. И послание (слышите, никакой анонимности больше!): Иван Кранов хочет связаться с Аней. Потом я еще, и неоднократно, передавал ей этот призыв, ожидая, что уж
— Алло?
— Это Анна Ливнева?
— Да, я.
— Меня зовут Викентий. И я звоню Вам по поводу Вани Кранова.
— Ого! Может быть, Вы объясните мне, наконец, что за безумие происходит?! Кто этот чертов маньяк?!
— Маньяк? Я ничего об этом не знаю… Иван был… моим школьным товарищем, и он повесился примерно… пятнадцать минут назад… В предсмертной записке он упоминал Вас… Писал, что безумно, отчаянно любит… Он оставил Вам последнее послание. Он был странный, но хороший человек. Художник.
Пауза.
Затем (дрожащим голосом):
— Какой ужас!
— Нам бы встретиться, я должен Вам передать…
— Конечно, конечно…
Оставила номер сотовый. Я напился до беспамятства в ту ночь. Мне было стыдно, хотя я и был уверен, что она сочтёт и эти «пятнадцать минуть назад…», и оценит эту иронию, и вычислит мой номер, и ворвётся в вагончик, и… А что — и? Этого я сам, дурак, не знал. А она, разумеется, ничего не сочла.