Воспитание чувств
Вот книжный полк, неясно, впрочем, на марше ль, на привале ли? Шеренгой вытянулись роты собраний сочинений, отдельные тома щеголяют цветными мундирами корешков, но
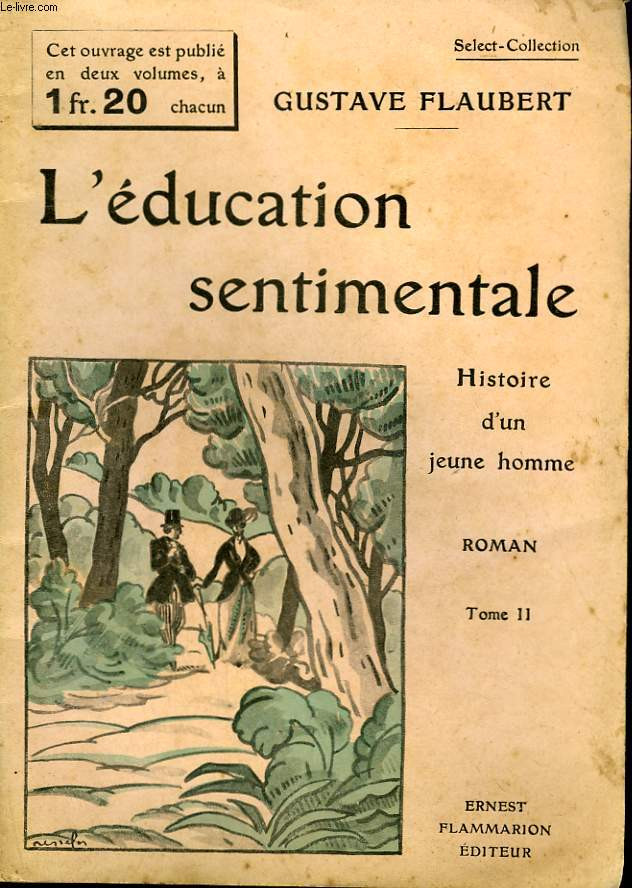
Стол как театр военных действий: массивный, землистого цвета, словно пересеченная местность, завален объектами (этот текст, отчасти, их приблизительная инвентаризация и топография разом) и объедками (об этом отдельно), среди которых и огарок церковной свечи, завощёный в миниатюрный медно-медовый подсвечник, и несколько пузырьков с эфирными (лаванда, лимон, бергамот и сосна) маслами, и
Так и было потом, декаду спустя, я, студентом, смущаясь от строгости мамы (впрочем, мнимой), приглашал свою девушку ночью в окно, а наутро прятал в том самом шкафу, ну, а ночью мы просто лежали, обнявшись, я, быть может, ласкал неумело её налитую грудь, но и только. Я был вовсе невинный и чистый тогда, а она проживала недавний разрыв с сердцеедом, поэтом, повесой. Так вот, этот ореховый шкаф (и окно, и невинные ласки эти), шкаф с подругой внутри — кандидат на роль финальных цветов из романа Флобера, вот поэтому я и вписал сюда этот мелкий сюжет без имён и названий, а всё — шкаф, всё — окно, всё — фонарь, всё — безумные книжные роты, что кружат по краям моих снов, как цветы у Чайковского, в вальсе, трогают мои сны. Снежный вальс, снежный вальс, как его я любил, как люблю, и все ждал, и ребёнком, и старше, подростком, ликовал: вот пошёл, наконец, первый снег: я гулять и дышать, фонарями в снегу упиваясь до ночи, а теперь поясницу надежно закутая в шарф, покурю на балконе, выпью бальзама и лягу. И темно. Покатится слеза. По стеклу. Запотело. Занавески обнимут по-сестрински свет фонаря, заместителя лунного света. Голубеют, желтеют окна в ночи. И немые свидетели, полчища книг, и шаги за окном, словно строчки вот эти, один за другим, и слова так и льются потоком машин по ночному проспекту.

